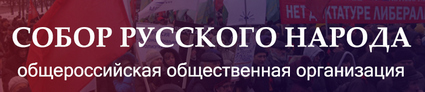А всё-таки нынешнее 150-летие Горького мы перемолчали. И статьи были. И умная, глубокая, сдержанная книга Дмитрия Быкова о нём вышла в ЖЗЛ. А вот ясное и общее чувство настойчиво говорит — перемолчали. Ну, и понятно, думаешь — отчего? Должна же быть какая-то причина?
Только кто же теперь спрашивает о причинах? Вон и революции (ещё так недавно Великой Октябрьской) словно и не бывало. Перед кем отвечать-то?
У старых людей, положим, ответ сразу готов: как это перед кем? Перед народом, перед будущим России. А только я, тоже старый человек, думаю, чтобы перед народом-то отвечать пришлось бы само собой, если бы этот народ был и если бы каждый человек от президента до бомжа знал, что стоит за этим понятием. Как там в пушкинском «Борисе»: «Всем, от вельмож до нищего слепца, всем вольный вход, все гости дорогие» — вот и объяснять не надо. И так понятно — народ.
А нынче оглянешься в газетном и телевизионном пространстве, а там вместо народа «средний класс», «гражданское общество», «инвесторы», «предприниматели», «электорат» (это не разные, а одни и те же люди в разных политических ситуациях). Ну, и что, мол? Народ-то не из одних рабочих и крестьян состоит. Дайте уж и менеджерам, вкладчикам (часто с неизбежным прилагательным — «обманутым»), дистрибьюторам и риелторам пожить. Сам вон (вспомни-ка) в шатающийся предперестроечный час писал, что народ-то только и остался тогда в книгах «деревенских писателей», и они сами этот народ в себе и берегли, а уж на улице не ищи. А в пору горячего начала перестройки на краткий миг «народом» стали депутаты — так горела их мысль на тогдашних сессиях, которые держали нас у экранов не хуже «Семнадцати мгновений весны». А сейчас вот омбудсмены, спичрайтеры, дилеры… И это бы ничего. Да вот беда: «цемента» между ними нет, скрепляющего единства – всяк сам себе народ и законодатель.
А литература-то, она ведь только отражение. И рада бы сагу или эпос написать, своих «будденброков», своих «форсайтов», своих «артамоновых» и “самгиных” или хоть кочетовских «журбиных». Да вот не тянется человек к человеку и род к роду. Горький этот недуг, это предчувствие расхождения вон ещё когда сознавал. Ещё человек на земле сидел. И только-только складывал из себя пролетариат, а он уж писал: «Современного литератора трудно заподозрить в том, что его действительно интересует судьба страны. Даже «старшие богатыри» (а это писано в 1908 г., когда ещё работали Короленко, Ключевский, Бунин, Куприн, Ремизов и, по нашему разумению, только и делали, что держали русское сердце. — В.К.), будучи спрошены по этому поводу, вероятно, не станут отрицать, что для них родина — дело в лучшем случае второстепенное, что проблемы социальные не возбуждают их творчества в той силе, как загадки индивидуального бытия, что главное для них — искусство, свободное, объективное искусство, которое выше интересов эпохи. Трудно представить, что подобное искусство возможно, ибо трудно допустить на земле бытие психологически здорового человека, который, сознательно или бессознательно не тяготел бы к той или иной социальной группе».
Тоже ведь всё народа хотел Алексей Максимович, а не «индивидуального бытия». А сейчас и пикнуть не смей про «социальные группы». Разом это будет сочтено «посягательством на личность».
А только, слава Богу, матушка-литература всё ещё умнее нас и за всяким порывом ветра не вертится. И я смотрю соискателей премии «Ясная Поляна» последних лет и вижу, что первый обморок «свободы» прошёл и само русское милосердное слово стало загораживать человека от самого себя, от своеволия своего. Само слово оглядывает пошатнувшуюся жизнь с состраданием и прощается с веком и народом, само ещё не сознавая прощания. Просто так складывается жизнь, как во все иные времена, — где больно, где светло, но уж как Бог дал, так вроде само собой и живут герои Василия Аксенова, Нарине Абгарян, Гюзель Яхиной, Натальи Мелехиной, Алексея Шепелева. А только это уж не былая устойчивая повседневность. Добрый вчерашний родной мир отчаливает на глазах, и слово слышит этот уход раньше авторов, дальней памятью своей генетики, памятью времён, когда слово ещё было плотью и совершенно совпадало со смыслом. А нынче уж слову со смыслом вплотную не сойтись. И автор ещё думает с героями, что живёт, как жил, а слово уже глядит вслед с печалью и жалеет авторов и героев, которым выпало такое бесплотное время, где жизнь выцвела до посторонности.
Приедет из Питера Василий Аксёнов в родную сибирскую Ялань, заглядится на деревню, на родных стареющих жителей, наслушается ещё живой речи, и на минуту чуть не обманешься: ага вот она, не зажившая и не кончившаяся в нас деревенская литература — снега, вторые рамы «листвой смолистой шибко пахнет»… Но не успеешь вдохнуть этот смолистый запах, как через запятую услышишь с автором деревенское радио: «Звучит музыка саксофона — то ли Ян Грабарек, то ли Гито Барбьери»… Ну-ну — Грабарек, значит… И тут же увидишь, что и все, прежде и для автора естественные слова, он отодвинет курсивом, потому что ушли они из его слуха, разошлись со смыслом, остались только словами… Дома-то он дома, а чужой, приезжий… И не укоришь. Как ещё можно проститься с родным языком, если не филологическим вздохом — русский ведь человек, а русский — он весь литература. Не зря герой (или автор) в деревенской тиши читает то «Апокалипсис», то «Бытие», будто проверяя себя библейской далью. Но через слово «отложит книгу», словно стыдясь. Процитирует и скорей «на улицу» — не приживётся ли нынешнее-то к вселенскому? Не приживается.
И Алексей Шепелев вроде родную деревню пишет в книжке «Мир – село и его обитатели». Пишет с улыбкой и печалью. Живо, честно, горько. Но отчего-то постепенно при чтении делается немножко не по себе. Ведь это он своих родных вот так выставляет. Будто немного и на продажу бедный этот быт и печали. И над собой, конечно, смеётся, но тоже вроде со стороны на себя глядит — тоже на продажу.
Открой Марину Москвину, её «Крио», и у неё увидишь, что она будто взвешивает реальность и слово и всё будто ухватывается за прежнюю литературу: чего лишнего-то писать – вспомните, всегда было так. И будто живёт, как прежде, и даже сопротивляется новому, а литература, всё время видная форма, уже свидетельствует о героине как о преходящей, если не прошедшей, как она ни сопротивляется, как ни возвращает документ из бумаги в тесноту и счастье жизни, жизни, жизни, нагой и прекрасной. В конце концов оказывается, что жизнь — это и есть литература. Как её ни удерживай, она всё оказывается художественным текстом. Такова она в стильном иронизме А. Кабакова («Группа крови») и в ликующей книге Лены Элтанг «Царь велел тебя повесить», когда почти видно, как автору не терпится дождаться утра, чтобы продолжить писать свою счастливую книгу, не смущаясь, что текст мечется из стороны в сторону, и уже мимо воли автора сам решает, кого из героев как «подставить».
А Юрий Буйда («Пятое царство»), как покажется вначале, и вовсе изозоруется. У него на дворе Смута, Юшка Отрепьев да думные дьяки. Только им на минуту поверишь, их XVI веку, как они возьмутся сыпать Бердяевым и Франком, Фёдоровым и Бибихиным, и митрополит Филарет начнёт убеждать сына Михаила Романова, что его гости «не инвесторы, которых надо заманивать преимуществами России». Вроде и открытая игра, но это и нынешнее, нажитое последним временем знание, что Россия не бывает вчерашней и завтрашней. Она — всегдашняя. Правда, это узнаётся, когда история умерла, когда её уже не воскресишь. И автор, шутя-то, шутя, но серьезно предупреждает читателя, что нам, конечно, не построить царства Божия на земле, однако если не будем стремиться к небесам, не будем жить и на земле. «Важно не вытоптать землю, засевая небо».
Но уже не поздно ли предупреждать. Не вытоптана ли уж земля-то? Ведь остаться без истории это и есть остаться без земли. А без истории и небо не засеешь — семена-то земные. И мы прощаемся и блистаем в «чистой» прозе и высоком искусстве, которое «выше интересов эпохи» и незаметно потакаем мастерам переписки родной истории, расчищающим под шумок место для омбудсменов и риелторов, тренд-вотчеров, коучей и топ-менеджеров. Для новой системы отношений с принципом — побольше потреблять и поменьше думать.
И я про литературу-то, про литературу, а всё и про «базис», на котором эта «надстройка» стоит, не забываю. И вот читаю в Интернете каждодневные новости, а там взаимные угрозы едва успевают сменять друг друга, и санкции с «адекватными ответами», и слово «война» со страниц не сходит. То американцы грозят Корее, то Израиль Сирии, то Китай Америке. Да и мы-то в стороне ли? Даже вон уж и Киев собрался с блицкригом на Москву. Всё будто мимоходом и «примечаниями», «для красного словца», но так настойчиво, будто потихоньку господа политики готовят таким лукавым скрытным образом очередную международную бойню. А для чего? Для новых свобод? Для молодых демократий? Для торжества исторической справедливости?
Да нет — в Горького загляните — он этот механизм за долгую жизнь в России и Европе хорошо разглядел. И при нём народы тешились тем же: «…готовятся к международной бойне, …которая нужна только для того, чтобы те лавочники, которые победят, могли отнять из-под власти побеждённых лавочников часть земли и населения, чтобы на отнятой земле торговать «безданно, беспошлинно» продуктами труда своих нищих рабочих и крестьян, чтобы бессмысленно для личной наживы истощать сокровища чужой земли и рабочую силу завоёванного населения. Маркс тут прав: «какими бы словами ни прикрывалась политика буржуазии — на практике она всегда убийство в целях грабежа».
Даже и обидно, до чего просто: лавочники против лавочников руками и жизнями молодых героев. Герои-то нынешние — предприниматели с их малым и средним бизнесом, пожалуй, и обидятся. Да только вот уже и президент при обсуждении «Концепции проекта закона о культуре» с горечью свидетельствует, что в последнее десятилетие продолжается: «снижение интеллектуального и культурного уровня общества; девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров; рост агрессии и нетерпимости, деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об отсталости России. И как результат — атомизация общества — разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских, если по Горькому, то «социальных групп». — В.К.), рост индивидуализма, пренебрежения правами других (поверьте, я цитирую это по государственному документу. — В.К.).
Хотя президент говорил об этом ещё в 2014 году в «Указе о государственной культурной политике» и «указ вступал в силу в момент подписания». А вот, оказывается, сила-то силой, а через четыре года опять надо повторять Федеральному собранию, что до этого ещё был подписан Федеральный конституционный закон от 17.12.1997, который и тогда уже обосновывал своё рождение «снижением культурного уровня российского общества и деградацией отдельных видов искусств и культурной деятельности».
Никогда ещё русский человек не читал о своём «гражданском обществе» такого диагноза недугов. Только и утешения, что не у одних у нас эти «атомизация, девальвация и пренебрежение правами». Если заглянуть в иностранных соискателей «Ясной Поляны», то увидишь, что у тамошних героев часто только фамилии и род занятий перемени — а «диагноз» не переменится.
Откройте американца Тома Маккарти, его роман «Когда я был настоящим» «с умело запутанным сюжетом» (как торопится продать его читателю торопливая Википедия) — и увидите блестящую игрушку о попытке героя после аварии вернуться памятью к ушедшей жизни, ко времени, когда он «был настоящим», пока к его удивлению не окажется, что и там, в прошедшем-то тоже была только подделка под жизнь. И все мы, в сущности, только реконструкции друг друга, пустое и злое повторение стереотипов. Смысл потерян необратимо, божественный текст утерян, и нам остаётся только забава художественных реконструкций своего кажущегося жизнью небытия.
Или прочтите «величайший роман современности» (опять торопится с продажей Интернет) «История одиночества» ирландца Джона Бойна с его прустовской подробностью, виртуозностью стиля, сжигающим любопытством героя и автора к себе, к своей неисчерпаемой тонкости, в ослепительном эгоизме забывающем о читателе — и вы увидите, как вместе с одиночеством героя растёт в тесноте, болтовне текста и взаимном равнодушии героев друг к другу и ваше одиночество.
Не зря, видно, я в общих размышлениях об иностранных соискателях писал о первенственном нарциссизме сегодняшнего человека, о жадном вглядывании в самого себя, будто селфи торопятся снять (что у Горького звалось «загадкой индивидуального бытия»), которое там мало отличается от нашего нынешнего русского любопытства.
Слово общей человеческой исторической генетикой ещё пытается защитить нас от своеволия, «оградить от себя», вернуть к единству, но мы за художественными заботами умудряемся не услышать даже своего сердца.
А третьего дня внучка вернулась из Петербурга со школьной конференции «Классика в современном мире», в чьей программе я увидел, что и там, у детей, не только наши, а уже и американские и шведские (конференция поневоле стала международной) участники тоже в голос твердили о необходимости возвращения не просто к книге (уже по моим примерам видно, что тут надо оглядываться да оглядываться), а к святым основам земного единства, которые и определяют понятие «классика». А коли горьковским языком сказать, то и выйдет, что во всех сочинениях тайно болит несознаваемая тоска по «социальной группе», по духовному единству, по живой человеческой истории, которая делается народами, а не миллионами хотя бы и блестящих, но равнодушных друг к другу и стране личностей.
И уже выходя из статьи, на пороге – вдруг явилась смутившая мысль: а не оттого ли и бежит нынешний человек от книги, что ему хватает своего одиночества, чтобы «не грузиться» чужими тонкостями, которые только отдаляют его от небесной глубины и земного единства человека и человека, от спасительного древа жизни, теряющегося сегодня в лесу, чтобы не сказать тайге, мёртвых деревьев познания.
Валентин Курбатов, Псков
Источник – Слово