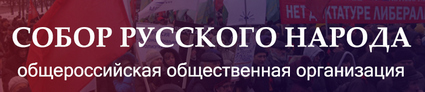На вопросы Светланы Замлеловой отвечает Александр Кузьменков
Александр Кузьменков – прозаик и литературный критик. Печатался в российской и зарубежной русскоязычной периодике на всем пространстве от Мельбурна до Чикаго. В 2016–2018 годах постоянно входил в десятку самых читаемых авторов «Журнального зала».
– Александр Александрович, современный литературный процесс отличается от литературного процесса советской эпохи и тем более эпохи дореволюционной. Как Вы считаете, в чем его особенности?
– Я очень много писал на эту тему, потому ничего нового не скажу, уж не взыщите.
Так вот: не думаю, что современный литпроцесс кардинально отличается от предыдущих. Дело в том, что литература не автономна, она подчиняется историческому процессу. Отечественная история не линейна, но циклична: в ней чередуются периоды реформ и контрреформ – подробности у Пантина и Лапкина. Взгляните на нашу так называемую современность: это точный слепок с николаевского «мрачного семилетия» – стагнирующая экспортно-сырьевая экономика, повальная коррупция, всевластие спецслужб, незаживающий кавказский фурункул… И далее по списку, вплоть до Крымской войны, пусть на сей раз бескровной, экономической, – но это война. А теперь вспомним, что происходило в русской литературе в конце 1840-х – начале 1850-х. Лучшую характеристику тогдашнего литпроцесса я нашел у цензора Александра Никитенко: «Литература наша в полном застое. Только и есть, что журналы. Но и в них большею частью печатаются жалкие, бесцветные вещи». Ничего не напоминает? Единственное более-менее заметное явление последних лет – «новый реализм» – идейный и эстетический клон «натуральной школы» со всеми присущими ей мотивами: деградирующий «лишний человек», вялые сожаления о «бедных людях», чугунной тяжести скука. Остальное тоже узнаваемо: вялая грызня западников и славянофилов – нынче они либералы и традиционалисты; засилье лубка – там Зряхов и Москвичин, здесь Донцова и Акунин; триумф гламурных виршеписцев – Бенедиктов плюс Сола Монова, тьфу-тьфу, чур меня.
Что касается советской эпохи… Давно говорю: зря сдали в архив Маркса. Закон соответствия базиса и надстройки никто не отменял. Экономика наша живет эксплуатацией советского наследия, и те же самые процессы имеют быть в изящной словесности. В жанровом отношении литература никак не обновилась: попытки влить новое вино в старые мехи не прекращаются. Букша привила побег модного вербатима к древу производственного романа, фэнтезийные опусы Алексея Иванова стоят на фундаменте советской исторической саги, Сорокин сделал карьеру, травестируя соцреалистические клише – список этот можно продолжать до бесконечности. И ничего не остается, кроме как повторить вслед за Екклесиастом: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было».
Единственное отличие, которое я сейчас наблюдаю, – Россия перестала быть логоцентричной страной. Вера в магию художественного слова, принесенная на Русь варягами, выветрилась за тысячу с лишним лет. Поэтому литература не имеет определяющего влияния на умы, каким пользовалась в позапрошлом и прошлом веках.
– Не кажется ли Вам, что современному литературному процессу присущи какие-то странные совпадения? Ну, например. Вдруг в поле зрения читателя появляется некий автор (или авторесса), не выделяющийся ни владением литературным языком, ни особым даром рассказчика, ни беспокойной, оригинальной мыслью. Однако его книги издаются, он премируется, делается известным, а вскоре, судя по постам в Фейсбуке или Твиттере, где у него к этому времени набирается изрядное число подписчиков, выясняется, что перед нами – трибун, зовущий на баррикады, молодой штурман будущей бури, страстный оппозиционер, борец «за нашу и вашу свободу» и т.д., да к тому же еще и ярый отрицатель советского периода российской истории.
Или другой пример. В так называемом «плане Даллеса», а точнее в книге Анатолия Иванова «Вечный зов», есть слова: «Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. Мы создадим вокруг них ореол славы, осыпем их наградами, они будут купаться в деньгах. За такими – кто из зависти, кто по необходимости заработать кусок хлеба – потянутся и остальные…» Но ведь именно так и произошло примерно после 1991 г. То есть может показаться, что политика активно вмешивается в литературу. Как Вы считаете, все это совпадения, случайности, пища для конспирологов-любителей или все-таки закономерности?
– Многослойный вопрос: три в одном. Можно ответить не в порядке поступления?
Вашу колонку о «плане Даллеса–Лахновского» в «Советской России» я читал. Светлана Георгиевна, мы же с вами филологи, так давайте вспомним, что «планов Даллеса» в отечественной литературе как минимум три, начиная с монолога Петруши Верховенского в восьмой главе «Бесов», – и все с одним и тем же набором антиценностей. И потом, что это за дилетантский план, где намечены стратегические цели, но ни слова нет о тактических средствах для их достижения? За подобное планирование директора ЦРУ следовало бы гнать со службы без выходного пособия. Поэтому конспирологическая версия не кажется мне состоятельной.
Отчего же в 90-е возник «культ секса, насилия, садизма, предательства»? Кейнс подсказывает: спрос рождает предложение. Маркетинг влиятелен, но не всемогущ. Самые квалифицированные маркетологи и рекламисты не заставят человека грызть кирпич вместо хлеба. Основной сегмент рынка, в том числе и книжного, – ширпотреб. У Шамфора есть дивный афоризм на эту тему: «На рынок не ходят с золотыми слитками, там нужна разменная монета, в особенности мелочь».
Касаемо «молодых штурманов будущей бури»: право, не стоит воспринимать их столь драматично. Всяк из них и жнец, и швец, и всех станов боец. Всеволод Бенигсен, к примеру, сначала упражнялся в соц-арте, потом невзначай написал «ВИТЧ», где выставил советских диссидентов моральными уродами, после вновь переключился на соц-арт. Захар Прилепин лет 15 назад слыл ультрареволюционером, куда там Че Геваре, а нынче он государственник 750-й пробы. Политические декларации для популярных литераторов – карьерный инструмент, никак не больше. Если бы это еще и читатель понимал…
Нынешняя политика и нынешняя литература, на мой взгляд, мало подвержены диффузии – Россия, как уже сказано, перестала быть логоцентричной страной. Кабы действующие политики романы читали, вряд ли Сенчин получил бы «Большую книгу»: «Зона затопления», если помните, начинается с пародийного диалога политика Вовы с энергетиком Толей. И вряд ли сорокинский «День опричника» выдержал бы девять изданий, включая аудиокниги.
– Вы не раз отмечали, что многие издательские проекты – товар скоропортящийся: «…бьет полночь, бархат и кружева стали лохмотьями, карета превратилась в тыкву… А принцу оно глубоко по барабану». В чем же смысл таких издательских проектов? Есть ли в них – не говорим «разумное, доброе, вечное», – но хотя бы рациональное?
– Есть, а то как же. Деньжат по-легкому срубить, как говорил незабвенный Володя Шарапов. Но современный человек не в силах подолгу сосредоточиваться на одном и том же объекте: клиповое, изволите видеть, мышление. Стандартная длительность статичного плана в телерепортаже – две секунды. То же с литературой: вчера публика была в жутком восторге от Сальникова, нынче минута славы миновала. Не беда, готов новый трехнедельный удалец, Леонтьев его фамилия. А протежирует ему неистовая виссарионша Балла, так что фанфары обеспечены.
– По-Вашему, что все-таки важно для писателя, в чем именно заключается литературное дарование, какими способностями и навыками должен обладать человек, чтобы стать или быть писателем в классическом смысле слова?
– У писателя нет других инструментов, кроме языка. По-моему, в основе литературного мастерства лежит как раз владение языком. Это, скажу на манер 1920-х, школа первой ступени. Школа второй ступени – знание материала, чтоб ненароком не прицепить на саблю бунчук вместо темляка, по образу и подобию Иванова. Таков обязательный минимум: не усвоив букварь, в университет не поступают. Все остальное – композиция, психология, интрига – категории более чем относительные: «Тебе и горький хрен – малина, / А мне и бланманже – полынь!»
– В своих статьях Вы обращали внимание на читателя, довольно благодушно принимающего все, что появляется на книжном рынке. Даже премию «Золотой афедрон» в номинации «Читатель года» Вы присудили российской публике. А как могла бы противостоять публика разгулу, скажем так, некачественной литературы? Вы писали, что «других писателей нет, потому что нет других читателей». Как именно читатель мог бы оформить запрос на других писателей?
– Да рыночными же методами: не тратить деньги на макулатуру. Но это уже ненаучная фантастика. Реальность выглядит немного иначе: первый тираж «Детей моих» Яхиной – 60 000 экземпляров, второй – 110 000. Широкому потребителю нужны товары широкого потребления.
– Наверное, Вы сталкивались с тем, что читатель порой неверно представляет себе, как именно книги попадают на прилавки книжных магазинов, почему крупные издатели издают сочинения одних авторов и не обращают внимания на других? Получается, что иллюзорность часто подменяет действительность, многие рассуждают примерно так: писатель написал книгу, отправил рукопись издателю. Издатель прочитал и, если книга хороша, издал, выдвинул на премию. Стоящую книгу наградили, и автор прославился. То есть если издают и награждают, значит, это хороший писатель, его стоит читать, хотя бы для ознакомления. Что бы Вы сказали такому читателю, как бы разъяснили алгоритм прохождения книги от рукописи до премии и что бы посоветовали в плане выбора чтения?
– Часто подменяет? Мягко сказано, Светлана Георгиевна. Такую подмену мы имеем в 100 процентах случаев. Теоретики расходятся в определениях: Дебор называл это спектаклем, Белл и Бауман – постмодернизмом, но терминологический разнобой не меняет сути. Категорический императив эпохи есть примат семиологии над онтологией, то есть видимости над сущностью. Но желающим выбраться из Матрицы не нужна красная таблетка, была бы охота сопоставлять факты. Андрей Рубанов до конца жизни ходил бы в номинантах «Нацбеста», не появись у него замечательная теща – Татьяна Набатникова, секретарь Союза писателей России. Сергея Шаргунова, лауреата 15 премий, опекали два его тестя. Алгоритм вполне грибоедовский: ну как не порадеть…
Что сказал бы читателю? Не все золото, что блестит. Этого достаточно.
Вопрос о выборе чтения сложнее. Ответить на него могу лишь апофатически: что угодно, только не современный российский худлит. Сам для душевного отдохновения предпочитаю нон-фикшен или средневековую японскую прозу.
– Вашей критике подвергались не только прозаики, поэты или читатели, но и коллеги по критическому цеху. Рецензии, а то и диатрибы пишут сегодня многие. Многие, по Вашему слову, глядят в виссарионы. Но внятной, аргументированной и, главное, беспристрастной критики, разбирающей не только проекты «АСТ» или «Эксмо», так и не появилось. Нет человека или людей, которые, действительно подобно Белинскому, разбирали бы массив издаваемой литературы. В чем же дело? Чего не хватает современной литературной критике? И какой, по-Вашему, она должна быть?
– Я бы уточнил: есть люди, способные на качественную аналитику, умную, жесткую и беспристрастную – Елена Иваницкая, Роман Арбитман, Сергей Морозов. Но их аналитические способности не востребованы. Почему?
Во-первых, опять-таки не будем сбрасывать со счетов читательское клиповое мышление. Самый популярный жанр литературной критики – короткая рецензия. И непременно на какой-нибудь бестселлер. Сравним две мои публикации у вас в «Камертоне». «Гнозис Дмитрия Бакина» – серьезное эссе. Что в итоге? – 267 просмотров за три года. Непритязательный фельетон «#яНеБоюсьСказать» про лаурированную Васякину – 1730 просмотров за неполный месяц. Во-вторых, отделы критики в литературных журналах превратились в филиалы издательских PR-отделов, это даже Левенталь признает. И какая аналитика возможна при подобных вводных?
Какой должна быть современная литературная критика? Не знаю. Знаю, какой не должна быть, поэтому вновь прибегну к апофатике. Критика не должна быть комплиментарной – это невозможно, ибо критик на содержании у издателя. Критика не должна оперировать аморфными понятиями вроде «харизмы», «самцовости» или «атмосферы» – это невозможно, ибо гаспаровский анализ текста тут же обернется смертным приговором автору. Критика не должна выражаться языком дадаистов: «вжевывать резину в почву опыта», «парадоксальная геометрия спасения» – и это невозможно, ибо извитие пустопорожних словес маскирует дилетантство рецензента. Претензий, как видите, немного, но все они – из разряда утопий.
– Многие жалуются сегодня, что государство не помогает литературе. Жалуются и толстые журналы, и союзы писателей. Известно, что сочинители в частном порядке обращаются к президенту с просьбой выделить содержание. При этом толстые журналы традиционно делятся на два враждующих лагеря – на условно либеральный и условно патриотический; общественных организаций, называющих себя «союзами писателей», едва ли не с каждыми днем становится все больше; да и число желающих писать повести и получать за это деньги тоже не сокращается. Зато словесность отечественная переживает не лучшие времена. Так кого и за что содержать? Возможно ли вообще в современной России создать какую-то справедливую систему государственной поддержки литературы?
– Встречный вопрос: а на кой черт она нужна? «Герой нашего времени», «Отцы и дети» и «Палата №6» написаны без государственных грантов, а премия правительства РФ не сделала Шаргунова умнее и талантливее. Нам, что, деньги больше тратить некуда? В России 27 000 детей, больных раком, и это гораздо важнее, чем собачья свадьба литературы.
– Вы известный прозаик и критик, автор порой беспощадных, но беспристрастных, аргументированных статей. Ваши критические обзоры никого не оставляют равнодушным: кто-то восхищается Вашим остроумием, Вашей эрудированностью, кто-то, что вполне естественно, обижен и возмущен. Как Вы относитесь к тому, что и сами становитесь объектом критики, а то и злобных нападок или даже оговоров со стороны якобы обиженных Вами?
– Благодарю за комплимент, Светлана Георгиевна, но вы преувеличиваете: прозаик я неизвестный; думаю, число моих читателей – в пределах статпогрешности.
Что касается выпадов в мой адрес, так тут работает третий закон Ньютона: всякое действие вызывает равное по силе противодействие. Отношусь к этому не без оптимизма: как понять, что движешься в верном направлении? – лишь по сопротивлению среды. Проблема в другом: не везет мне на умных оппонентов, некого просить: «Побей, но выучи». Анна Жучкова, ведущий эксперт по брутальности и самцовости, намедни учила меня уму-разуму: мол, шизофрения для Козловой – метафора, и нечего тут достоверности требовать. А интегралы в пятом классе, надо полагать, гипербола. Точно так же покойный Виктор Топоров внушал мне, что колядинский пассаж про две десницы – метонимия. Говорю же, не везет мне с оппонентами.
– А что же нужно, Александр Александрович, чтобы российская словесность возродилась? Существует, например, мнение, что для возрождения словесности, да и вообще русской цивилизации необходим безусловный и массовый отказ, причем отказ с отвращением, от советского наследия, от всего порожденного или произведенного советской властью. Есть ли свой рецепт у Вас?
– О советской составляющей в нашей нынешней прозе мы уже потолковали. А если взглянуть на проблему отвлеченно…
Анатолий Найман говаривал: «Советский, антисоветский – какая разница?» Я того же мнения. Критерии оценки и отбора – талант и мастерство, отнюдь не идеология. Возьмем для примера наших классиков: Тургенев – либерал, Достоевский – почвенник, Лев Толстой – христианский анархист, но для нас это ровно ничего не значит. Если говорить о советском наследии, то вот два вполне соцреалистических романа – «Петр I» Алексея Толстого и «От всего сердца» Елизара Мальцева. С изображением действительности в ее революционном развитии. С высоким идейно-художественным уровнем. С активным участием литературы в социалистическом строительстве. Оба автора, кстати, лауреаты Сталинской премии. Кого в итоге помним и почему?
Русская словесность в моих рецептах не нуждается, как и в любых других: она подчиняется лишь циклам отечественной истории. Литература наша оживает в периоды реформ. Однако есть тоскливая закономерность: труба всякий раз пониже, а дым пожиже. Чтоб не растекаться мыслию по древу, глянем лишь на советскую прозу. НЭП: Платонов, Булгаков, Бабель, Зощенко, Катаев, Олеша, Эренбург, Ильф и Петров, Тынянов, Пильняк, Вагинов, Добычин – и это далеко не полный список значимых фигур. Хрущевская оттепель: Бондарев, Битов, Аксенов, Гладилин, Астафьев. Перестройка: Пелевин и Сорокин. То, что впереди реформы, – бесспорно. Не знаю, однако, найдутся ли у нас в эту пору ресурсы для литературного ренессанса.
– Благодарю Вас, Александр Александрович, что согласились ответить на вопросы. Будем надеться, что животворящие реформы не за горами и что у словесности нашей достанет ресурсов для возрождения.
Светлана Замлелова
Источник: Советская Россия