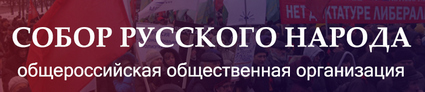26 августа 1958 года в Грозном начались выступления против возвращения выселенных в 1944 году чеченцев и ингушей. Во время бунта его участники, почти не встречая сопротивления, взяли штурмом здания обкома, МВД и КГБ. В деталях этого странного события разбирался обозреватель “Власти” Евгений Жирнов.
“Мы и сами не верили в то, что говорили”
Восстания бывают столь же незнаменитыми, как и войны. О грозненском бунте 1958 года предпочли сразу забыть и на протяжении десятилетий ни разу его не упоминали. Доклад об этих событиях на пленуме ЦК КПСС и последующее обсуждение не стали стенографировать, как будто такого вопроса в повестке вовсе не было. Даже многие жители Грозного, за исключением непосредственных участников событий, не знали точно, ни когда они произошли, ни что творилось в те дни в центре города. Если тема бунта почему-либо вдруг всплывала в разговоре, о нем говорили вскользь и иносказательно: “Это когда чечены матроса убили” или “Ну это когда из обкома бумаги летели”. И на этом разговор быстро сворачивался.
В нашей семье о том восстании вспоминали крайне редко, хотя мои близкие знали о нем гораздо больше многих других грозненцев. Моя бабушка в 1958 году работала инструктором Грозненского горкома КПСС по номенклатурным кадрам, так что знание подноготной всех чиновников и руководителей предприятий, которых утверждал в должности горком, включая их поведение в критических ситуациях, входило в ее прямые обязанности. Так что нет ничего удивительного в том, что о грозненском восстании я узнал из одного ее разговора.
В детстве, когда в детском саду случался карантин или когда он закрывался на лето, я чаще всего оказывался на работе у бабушки. И вот как-то к ней зашла ее коллега, чтобы обсудить кандидатуру на какой-то пост. Но бабушка сказала, что он не подходит. Я не запомнил ни фамилии этого человека, ни других деталей — ничего, кроме того, почему его нельзя было назначать: “Он не справится. Он трус. Когда были события 1958-го, секретари обкома прятались в сейфе. А он залез туда вперед всех”.
Когда я дома принялся расспрашивать бабушку об этой истории с сейфом, она, сказав, как обычно, “но повторять это нигде нельзя”, объяснила, что в здании, где находится обком, до революции был банк и у него в подвале есть огромный сейф, превращенный в бомбоубежище. А прятались там люди, которые боялись рабочих. Я ничего не понял из этого рассказа и, наверное, забыл бы об этой истории, если бы на протяжении многих лет она время от времени не всплывала в разговорах.
То о каких-то деталях — к примеру, как шла к обкому огромная толпа, неся гроб, и как бежавшие впереди женщины разгоняли милицейские кордоны — рассказывал бывший второй секретарь райкома, дед моего лучшего школьного друга. То вдруг оказалось, что наш сосед — шебутной шофер дядя Коля — подростком участвовал в погроме обкома партии. Выпив на свадьбе дочери, он начал вспоминать, как они ломали двери обкомовских кабинетов. Без всякой цели, просто так. Вломившись, они от нечего делать выгребали из столов и шкафов бумаги и тащили их на балкон, поджигали, швыряли в воздух и смотрели, как они летят. “Не представляешь,— говорил он,— как это было здорово — сидеть на парапете обкомовского балкона и болтать в воздухе ногами”. То вдруг бабушка начинала рассказывать, как ее вместе с другими коммунистами, которые не испугались и не сбежали, послали агитировать стоявших на площади Ленина людей, убеждать их разойтись. И как из этого ничего не вышло: никто не стал слушать их разговоры про интернационализм. “Да мы и сами не верили в то, что говорили”,— добавляла она.
Таких фрагментарных воспоминаний с годами становилось все больше, но в единую картину они не складывались. Если восстание 1958 года было против партии и ее власти и поэтому громили обком, то почему находившийся в двух кварталах от него горком не подвергался штурму и совершенно не пострадал? А если бунт был против чеченцев и ингушей, почему никто из них не вспоминал об убитых во время погрома родственниках? Ведь о погибших во время выселения в 1944 году рассказывали буквально все знакомые мне, как их тогда называли, представители коренной национальности.
Однако самым любопытным оказалось то, что рассказал отставной майор КГБ, на старости лет заведовавший в нашем Клубе служебного собаководства разведением овчарок. Старик был, что называется, всегда застегнутым на все пуговицы, но ценил понимающего слушателя и иногда рассказывал о недоступной советским гражданам загранице или других занимательных вещах. Он как-то вскользь упомянул, что в 1958 году кроме обкома толпа врывалась в Министерство внутренних дел ЧИАССР и республиканское управление КГБ. Причем из управления госбезопасности их уговорили уйти, а в МВД они безнаказанно хозяйничали несколько часов. А потом сказал фразу, расставившую все по своим местам: “У чекистов и народа была одинаковая неприязнь к чеченам. И мы одинаково не понимали, что творят в Москве”.
“В связи с неспокойной обстановкой”
Неприязнь коренного и некоренного населения действительно была давней и непроходящей. В интеллигентных домах никто и никогда не проявлял открытой враждебности к чеченцам и ингушам. Однако неприязнь нет-нет, но давала о себе знать. Помню, мальчишкой я был в гостях у давних друзей семьи, живших напротив ветхого здания с необычно широкими тесаными воротами. Я спросил, что там было, и лицо добрейшей тети Саши закаменело. “Там,— сказала она,— были кавалерийские казармы. В начале войны там собирали из чеченцев кавалерийскую часть. Полк или дивизию, шут его знает. Их на фронт собирались отправить. А я рано-рано утром слышу — копыта цокают. Это они все с оружием в горы, в банды, сбежали. А потом нашим солдатам в спину стреляли”.
Другой наш знакомый рассказывал о своем участии в ликвидации этих банд. Он говорил, что их выбросили с парашютами над горами, причем одеты все десантники были в “подарок Рузвельта” — американскую военную форму. Бандиты решили, что десант немецкий, и с приветственными криками стали выбегать к парашютистам. О том, что было потом, ветеран не рассказывал.
Немало говорили и о выселении чеченцев и ингушей в 1944 году. Рассказывали, что им разрешалось взять с собой по два мешка с вещами и продуктами. И что у крупных руководителей-чеченцев и религиозных авторитетов мешки оказались доверху набитыми купюрами крупного достоинства.
Что из подобных рассказов было правдой, а что — пропагандой, не имело большого значения. Некоренное население твердо верило, что все именно так и происходило. И столь же твердо было уверено в правильности решения Сталина о выселении чеченцев и ингушей — предатели и их пособники понесли заслуженное наказание.
И вдруг как снег на голову в 1956 году в Москве принимают решение о возвращении чеченцев и ингушей из ссылки, а в январе 1957 года — и о восстановлении Чечено-Ингушской АССР. Возможно, принимая скоропалительное решение, Хрущев руководствовался обычной партийной формулой “Народ нас поймет”. Но народ ничего не понял, поскольку никакого разъяснения населению Грозненской области так и не последовало. И это привело всех в состояние полного недоумения. Ведь если все выселенные реабилитированы, то чьи же жертвы лежат в солдатской братской могиле на центральном городском кладбище?
Свои основания для неприязни и непонимания ситуации были также у чеченцев и ингушей. Их автономную республику восстановили, но возвращаться на родину не разрешали. А те, кто вернулся, увидели в своих домах жителей Центральной России и Дагестана, насильно переселенных после 1944 года в опустевшие сельские районы Грозненской области. Однако в глазах чеченцев и ингушей все они были ворами, захватившими их исконную собственность.
В партаппарате и органах советской власти царило неменьшее непонимание и недовольство. Как вспоминала бабушка, многие были возмущены тем, что должности нужно отдать представителям коренной национальности, а самим или уходить на работу с понижением, или ехать в другие области и республики, где нужно было заново устраивать жизнь и карьеру.
Однако до тех пор, пока разборки между переселенцами и возвращенцами шли в сельских районах, в Грозном это не вызывало бурных эмоций. До выселения доля коренного населения в городе была ничтожно мала. И вдруг чеченцы и ингуши стали захватывать участки на окраинах города, самовольно строить дома, а также требовать квартиры от городских властей. Сказать, что это вызвало раздражение, значит ничего не сказать. В восстановленной ЧИАССР, как и во всей стране, нарастала безработица. Народ только что пережил дефолт, когда партия и правительство отказались платить по облигациям, на которые годами насильно подписывали рабочих и колхозников. Квартирный кризис не разрешался годами. А тут еще возвращенцы, требующие особого отношения и особых льгот. Так что межнациональные стычки и драки были неизбежны.
Последней каплей стало убийство рабочего химического завода в поселке Черноречье на окраине Грозного. С чего начался скандал и был ли убийца чеченцем или ингушом, большого значения ни тогда, ни позднее не имело. Народ так до конца и не разобрался, кого именно убили 23 августа 1958 года. Рабочего Степашина, что соответствовало действительности, или его друга — приехавшего домой в отпуск матроса Рябова, который на самом деле успел убежать от убийц. Версия с матросом, убитым в спину, куда больше соответствовала настроениям русскоязычных грозненцев и потому имела широкое хождение.
Потом, когда документы о событиях 1958 года рассекретили, появилось множество противоречивых данных о том, как разворачивались дальнейшие события. К примеру, руководство сначала запретило проведение прощания с погибшим Степашиным в клубе, а затем вдруг был построен помост, на который установили гроб, и похоронам был придан едва ли не официальный статус. Однако никакого зловещего или тайного смысла не существовало. И заводское и партийное начальство металось, пытаясь найти решение, не обостряющее межнациональные отношения и не раздражающее рабочих.
Такая же ситуация сложилась и при организации погребения. Из всех городских кладбищ самым близким к Черноречью было кладбище в Октябрьском районе, возле воинской части. Но новая жертва чеченского бандитизма, по мнению масс, должна была покоиться рядом с прежними — возле братской могилы на центральном кладбище у консервного завода. Однако поселок и кладбище находились на разных концах города. А путь между ними лежал по проспекту Орджоникидзе, мимо обкома партии.
По версии, которую излагал в своих воспоминаниях генерал-полковник госбезопасности Сергей Бельченко, “в связи с неспокойной обстановкой” направленный в Грозный вместе с первым замминистра внутренних дел генерал-полковником Семеном Переверткиным, друзья погибшего Степашина заранее решили устроить митинг на площади Ленина, напротив обкома. Но есть и другая версия. Процессия двигалась к кладбищу, когда на ее пути стали выставлять милицейские заслоны. И именно тогда народ бросился к находившемуся недалеко от проспекта Орджоникидзе центральному рынку за подмогой, а несколько сотен женщин выбежали вперед и стали разгонять стоявших на пути процессии милиционеров. А те, сочувствуя чернореченцам и присоединившимся к ним горожанам, без сопротивления отходили в сторону.
Разгоряченная толпа принесла гроб на руках к обкому и требовала уже не только сурового наказания виновных, но и немедленного прибытия комиссии из Москвы, которая бы прекратила возвращение чеченцев и ингушей из Средней Азии и Казахстана. Когда же никакой реакции из Москвы не последовало, ораторы стали требовать самолет, чтобы отвезти тело Степашина в Москву. Пусть, мол, Хрущев полюбуется, чего он добился своим бездумным решением. Естественно, убитой горем матери Степашина митинг и отправка гроба в Москву были нужны меньше всего. И, видя ее страдания, чернореченцы согласились идти дальше. Через 200-300 метров, на площади Орджоникидзе, их посадили в заводские автобусы и отвезли на кладбище, а после похорон — в Черноречье. Но митингующие с площади Ленина расходиться не торопились.
“Большая группа хулиганов ворвалась в обком”
Дальнейшие события генерал Бельченко описывал так: “Толпа продолжала требовать открытия митинга и выступления секретарей обкома КПСС. В конце концов митинг возник стихийно. На нем прозвучали уже не только античеченские, но и антисоветские мотивы, недовольство Хрущевым и его политикой, даже призывы к забастовке. Толпа, собравшаяся на стихийный митинг, поначалу готова была к диалогу с властью и выдвижению осмысленных политических требований. Однако ближе к ночи зеваки и любопытные, то есть более здравомыслящая публика, отправились по домам. А агрессивная и незаконопослушная часть толпы откололась от митинга и начала штурм обкома. Привлеченная для усиленной охраны здания группа работников милиции действовала вяло. Ворвавшись в здание, бунтовщики бесчинствовали, открывали служебные кабинеты, искали секретарей обкома”.
Однако ни секретарей, ни других ответственных работников в кабинетах не было. Все они или бежали через неприметную дверь, выходившую в сквер позади обкома, или спрятались в бывшем банковском хранилище в подвале, еще до войны превращенном в бомбоубежище, где были и кровати, и запас продовольствия и воды.
“К полуночи,— рассказывал Бельченко,— милицией и подразделением войск МВД обком был очищен от хулиганов. Но толпа наиболее агрессивных и подогретых спиртным людей не расходилась. Во втором часу ночи оцепление было снова прорвано, и нападавшие рванулись в здание. Главной ударной силой была молодежь во главе с известными местными хулиганами — учащимися ремесленного училища. Поснимав с себя поясные ремни и взмахивая пряжками, они бессмысленно носились по коридорам и кабинетам, вряд ли отдавая себе отчет в том, зачем они это делают. Силами милиции и КГБ здание было вновь очищено от хулиганов. К трем часам ночи утомленная толпа разошлась, а мелкие группы были рассеяны. Милиция задержала 20 человек, в основном пьяных, 11 из них посадили в камеру предварительного заключения. После выяснения личности всех отпустили. Милицейское начальство, полагая, что общественный порядок наконец восстановлен, успокоилось. К 10 часам утра на площади вновь собралась большая толпа. Раздавались выкрики с требованием вызвать представителей из Москвы. Все сотрудники обкома КПСС, в том числе секретари, как обычно, явились на работу, в это же время в обкоме находились секретарь горкома и руководители МВД республики. В 10 часов утра часть собравшейся толпы, несмотря на уговоры, оттеснила охрану и через главный подъезд ворвалась в здание”.
Приливы толпы в обком продолжались весь день 27 августа. Бельченко вспоминал: “Примерно в час дня от митингующих снова откололась большая группа хулиганов, ворвалась в обком и заполнила все помещения. Неоднократные попытки удалить хулиганов из здания не имели успеха, они продолжали погром: ломали мебель, били стекла в окнах, выбрасывали на улицу деловые бумаги, календари и т. п., кричали, свистели, некоторые из них призывали бить чеченцев и “устранить” руководителей местных республиканских и партийных органов. Часть нападавших пробралась на крышу здания и стала жечь там бумагу. Другая группа заполнила галерею балкона 3-го этажа и оттуда выкрикивала “провокационные призывы”. Зал заседаний обкома, рассчитанный на 250 человек, также был заполнен до предела хулиганами. В служебных кабинетах нападавшие разливали чернила, били графины и стаканы, рвали настольные календари и бумагу, срывали с окон занавески. В столовой обкома были открыты все водопроводные краны и краны газовых горелок. К счастью, коммунальные службы довольно оперативно прекратили подачу газа в здание. Погромщики попытались использовать местную радиотрансляционную сеть для выступлений перед толпой. Однако одному из коммунистов удалось вывести радиовещание из строя”.
В толпе, как уже говорилось, ходили коммунисты и партийные работники, безрезультатно пытаясь уговорить собравшихся разойтись. Бунтовщики если и уходили с площади, то лишь для того, чтобы затеять новые штурмы. Им удалось прорваться к расположенным на другом берегу Сунжи зданиям МВД и КГБ. И в обоих случаях сотрудники этих ведомств не оказали нападавшим сопротивления. По ленинскому завету восставшие попытались взять почту и телеграф. Но не для захвата власти, а лишь для того, чтобы передать свои требования в Москву. А получив связь с приемной то ли Хрущева, то ли кого-то из секретарей ЦК, выдвинутые толпой идейные вожди не смогли ни сформулировать свои требования, ни получить сколько-нибудь внятного ответа.
Ничего не добившись, бунтовщики решили опробовать новую тактику: вечером 27 августа они попытались перекрыть железную дорогу. На вокзале они остановили отправление поезда Ростов-Баку и два часа расписывали его лозунгами.
“Некоторые,— рассказывал потом генерал Бельченко,— агитировали пассажиров, другие бегали по вокзалу в поисках чеченцев, встретив которых избивали. Кто-то продолжал целеустремленно добиваться связи с ЦК КПСС — хотели послать телеграмму. Наряд милиции сумел эту телеграмму изъять. В полночь в Грозный были введены войска. Через 20 минут они оказались на станции. Толпа сопротивлялась — забрасывала военных и железнодорожников камнями. Солдаты, действуя прикладами и не открывая стрельбы, быстро подавили сопротивление. На вагонах были стерты надписи, с путей убрали посторонние предметы, и меньше чем через час поезд отправился по назначению. Беспорядки были прекращены. Четыре дня в городе действовал комендантский час. До 30 августа охрану важнейших объектов и патрулирование по городу осуществляли армейские подразделения”.
Потом в Грозный все-таки приехала высокопоставленная комиссия во главе с секретарем ЦК КПСС Николаем Игнатовым, которая констатировала, что власти в Грозном струсили и не контролировали ситуацию во время событий. 5 сентября 1958 года Игнатов доложил о грозненских беспорядках на пленуме ЦК. Разумеется, выполнять требования бунтовщиков и останавливать возвращение чеченцев и ингушей никто не собирался.
Источник: Коммерсантъ
Фото отсюда