
Достоевский глазами молодых и не только.
«Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает: послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание…»
Ф. Достоевский. «Бесы»
Сегодня, когда мир ведут к глобальному послушанию, выстраивая единую вертикаль, ведущую не к Небу, а к очередному земному божку, достаточно вернуться к Достоевскому, чтобы понять, что эти всесильные мира сего сильны только в собственных глазах, а все их глобальные проекты и желания по обузданию человечества остаются всего лишь проектами и желаниями, звучащими устрашающе, но бессильные перед Его Волей, позволяющего им бесноваться ровно столько, сколько нужно человеку для прозрения, чтобы он осознанно сделал свой выбор в пользу Света или Тьмы.
И гений Достоевского в этом плане бесценен. Однако востребованность сегодня такого писателя говорит о наступлении не лучших времен на земле. Печально, что он, не совпадавший с бравурным, мажорным, жизнеутверждающим ритмом социализма, дождался-таки своего часа и вновь готов подставить свое плечо от надвигающейся всемирной щигалевщины, пропагандируемой новым тайным обществом новых Верховенских и комментируемой в социальной сети новыми «хромыми»: они предлагают «разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении… будут работать». [1]
Советская школа при всех своих огромных достоинствах имела главный недостаток в литературе: очертив строгие идеологические рамки, (о выходе за которые никто даже не смел думать, априори сердцем и умом принадлежа коммунистической партии, генеральная линия которой была выверена социалистическим реализмом) школа эта контролировала и направляла в умах школьников и их учителей мысль русских классиков.
Ответ Михаила Шолохова врагам социализма, подозревавшим, что в СССР писатели пишут по указке партии, был доведен до чеканной формулы применительно уже к советской литературе: «Каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии…». [2]
Что было делать учителю в такое время с Достоевским, если его философия не вписывалась в общую молитву верховному божеству – Коммунизму, не желавшему открывать двери своего коммунистического рая тем, кто, как Федор Михайлович, пытался постичь непостижимое и дать человеку то, без чего он перестает быть человеком, – Веру.
В свое время в Семипалатинске, объединив одиннадцатые классы, мы шесть часов подряд вели «суд над Лениным» по пьесе М. Шатрова «Диктатура совести». Передо мной сидело, так называемое, «потерянное поколение». Они не видели смысла в борьбе одиночек, они отказывались принимать силу примера героической личности, считая, что жизнь – слишком дорогая цена во имя призрачного будущего, а когда заговорил Петр Верховенский, они потеряли ощущение времени: не может Достоевский знать столько о социализме и особенно о его язвах и уродливых формах. «Это точно Достоевский?» – заглядывали они снова и снова в годы его жизни и отказывались понимать, что человек, ушедший из жизни в 1881 году, еще десятилетие назад – в 1871-м (!), мог пророчествовать бесовщину, заполнившую собой XX век, но, главное, очевидный им, – выпускникам школы 1990 года.
Поэтому в советскую школу Достоевского могли впустить только с романом «Преступление и наказание». И Раскольников вошел не столько с теорией «Тварь я дрожащая, или право имею?», сколько жертвой царизма, унижавшего человеческое достоинство нищетой и безысходностью, толкнувшими на преступление не какого-то маргинала, а студента, желавшего получить в столице высшее образование.
«Как хорошо, что большевики свергли царя с его бесчеловечной системой» – должны были выдохнуть счастливые дети, рожденные при социализме.
Но и социализм почил в бозе и новый век встал перед выбором: не – читать Достоевского или нет? – а – зачем его читать, если и он, и вся русская классика – это «классический абьюз»? – Т. е. психологическое, физическое, сексуальное и т. д. насилие над человеком!
«Читать Достоевского – все равно что смотреть, как топят котят. Мучительно. Я не понимаю, зачем «Преступление и наказание» в школьной программе. То, что Достоевский нагнетает мерзость, отталкивает», – морщится Анна» [10], – цитирует петербургская «Новая газета» ученицу, взяв в заглавие своей статьи крупными буквами первую фразу этой сморщившийся Анны.
«Современные подростки под влиянием идей «новой этики» совершенно по-иному воспринимают классическую литературу, что уж говорить о школьной программе. 19-й век школьникам дается непросто, 18-й — тем более. Москвичка Анна Смирнова (18 лет), будущий психолог, назвала допушкинский период «серой массой», из которой что-то «вытарчивает» … – ухватившись за этот «вытарчивающийся» сучок из 18 века и опершись на «новую этику», журналистка Башмакова согласилась: «Метафора безрадостная, но точная: архаика и правда утомительна». [10]
Поэтому не удивительно, что ученики после такого подхода к изучению классиков могут задаваться вопросами: «Почему Соня Мармеладова не пошла в уборщицы, а Катерина Островского не сбежала от мужа и свекрови?!». [10] Остается поставить к статье напрашивающийся вопрос: удивительно ли, что такая статья вышла из-под пера журналистки с фамилией гоголевского героя, способность думать для которого была непосильной задачей.
Посмотрим, что предлагается в школьном учебнике по творчеству Ф.М. Достоевского сегодня, когда социализм благополучно забыт, а щигалевщина и Верховенские только набирают обороты по реализации своей теперь уже легализованной, а не тайной программы?
На изучение писателя отводится 10 часов, это на 6 часов меньше, чем на Л. Толстого, но это и не так много, чтобы тратить время на «Религиозно-философские искания писателя» [3], к глубоко верующему писателю не имеющие никакого отношения, но выдающие атеистическую суть социалистического реализма при советской власти.
Конечно, нужно ориентировать школьника и студента в этой Вселенной, которая называется «Толстой», или «Достоевский», но только чтобы показать их геолокацию – местоположение относительно других писателей с их Вселенной, помочь им войти в эту Вселенную, но никак не ограничивать, направляя их по исхоженным тропам и дорогам. Но, к сожалению, школа не дает детям такую возможность, и тогда каждый ищущий, думающий человек сам нащупывает свою дорогу не в «новую этику», а в этот самый «консервативный» мир бессмертной русской классики. В чем у нас будет возможность убедиться.
Есть в интернете страничка Марины Ивановой, которая привлекла внимание и тем, что она пишет о Достоевском, и тем, как пишет. Ее стиль, ее авторские знаки препинания, рвущие в клочья летящую мысль, слияние ее в конвульсиях, в полуобморочном танце с тем, кто в этом состоянии жил и творил, ее лихорадочное желание договорить, досказать, успеть раньше, чем читающий ее ускачет в Тик-Ток, – все есть Достоевский и о Достоевском.
Послушаем ее:
«Я не знаю, не ведаю, не могу объяснить… Но он, он-он, он, он, он – послан мне Небом – Ангелом Света. Ангел этот – ох, как не бел… Нет – ничего из того, что бы дало возможность – перепутать. Все в нем – невообразимо противоречиво, невероятно переплетено, абсолютно – непостижимо… Вот! Промысел Божий – автор русской Летописи Времен… Русской – через Человечество… Как не уверовать в То, о Чем говорят, мол Его – нет… Так, как же – нет, если есть Достоевский, – прямое свидетельство Присутствия Его во Всем?! Как же,… нет, коли – Всегда?… Все, что могло убить «безбожника Федьку», – стало его щитом на пути Веры. Все, что могло лишить Надежды – подарило ему Любовь, в которой он видел Красоту, как спасение Мира… Как? За одну жизнь – миллионы лет пребывания в страстях человеческих? Что же это за Земля Русская, которая так прирастает гениями? Петербург-Иерусалим. Петербург-Рим. Петербург-Мекка. Петербург-Вселенная. Целое Небо свидетельствует, – рождением Достоевского – певца греха и раскаяния, странника и затворника, игрока и идиота, сумасшедшего и пророка… Стоило родиться на этом Свете, чтобы дружить с тем, кого нет… – в этом измерении. Стоило жить в Петербурге, городе-портале, чтобы не знать – невозможности пребывания в разумных мирах… Для Господа все живы… Всё совершенно, – если «духом не падаешь, а растёшь»; каждой клеткой своего «органона» принимаешь Жизнь. Он, Достоевский, даже когда не мог верить, – знал, знал, что … нет конца и края Любви… самого Конца и края – нет… ежели принял Небо. Все – через Него, все – от Него… Одного…». [4]
Предложите такому читателю «поиск в романе «Идиот» авторской «мечты о «положительно-прекрасном» герое», или поиск «Социальных и религиозно-философских истоков бунта» Раскольникова в романе «Преступление и наказание» [3], или попробуйте внушить этой Марине Ивановой, что тема «Утраты веры в Бога – в центре внимания Достоевского». Она вас не услышит, равно как и наоборот.
«Роман о преступнике, который восстает против обыденной жизни и в конце концов добровольно принимает на себя нравственное наказание», [3] – ориентирует школьника современный учебник литературы, который легко может привести старшеклассника не к Раскольникову, а к Навальному.
На что сориентировал сам Достоевский Марину Иванову?
«Федор Михайлович мой старинный друг, рассказывал людям о добре и зле, о душе, которая – поле битвы добра и зла. Не осуждал, не приговаривал, не клеймил. – Пишет она, не дистанцируясь от писателя, а как о самом близком и родном ей человеке, – Описывая людей и обстоятельства, он искал оправдания несчастным душам, которые перешли на сторону тьмы. Он желал им возврата к Свету, пытался спасти… Многое из событий со страниц своих книг он испытал и сам. От неверия, метаний, презрения и осуждения – до абсолютной веры. Вот пример для меня присутствия Неба на Земле. Он мог трансформировать свою боль и боль вселенскую во спасительную силу веры, Надежды, Любви. Его бренное тело испытало много невзгод, а душа закалилась любовью к человечеству. Познав персональную истину, он понял, что Господь всех любит одинаково, как Отец своих детей». [4]
«Георгий Тараторкин для меня – лучший Раскольников, как Яковлев – князь Мышкин… – пишет Марина, и это выдает в ней человека советского поколения, – Невероятная игра актера, – это космос, описанный моим другом Фёдором Михайловичем. Исхудалый лик, гордыня, максимализм, жалость ко всему светлому и жестокость ко всему низменному. Палитра чувств неоднозначна, противоречива и цельна одновременно. Как гениально Георгий Тараторкин передал взгляд человека, совершившего страшное преступление во имя идеи борьбы добра и зла… Как можно было так показать необходимость раскаяния души, как единственное начальное условие жизни в Боге. Необходимость раскаяния и прощения, понимание и принятие неотвратимости наказания». [4]
Ниже мы увидим еще одну точку зрения на воплощение образа Раскольникова, не менее интересное, но уже от представителя нового поколения.
«Петербург Раскольникова» – вечная тема как укор старому режиму, с его нищими, обездоленными, живущими в городских трущобах, в каморке, напоминающем гроб, где отцы проматывают жизнь в кабаках, а дочери – на панели. Но есть Петербург Достоевского, в котором и сейчас живет та, у которой есть выбор в городе русских царей обратить свой взор выше и дальше – на дворцы и роскошные парки, но она предпочла его город.
Послушаем Марину Иванову, сохранив ее пунктуацию, убедительно передающую ее эмоциональное состояние, когда она пишет о Достоевском – любимом писателе и человеке:
«У моего друга скоро день рождения. Юбилей. Чем поздравит его человечество? … Рождением новых гениев? Победой красоты? Раскаянием и смирением? … Новыми шедеврами мировой литературы??? Или…, или!!!
Вспомнят, конечно, фильмы по тв покажут, передачи новые снимут. Уже – хорошо. Двести лет – срок немалый, больше десятка поколений… Удивителен мир Божий!!! Таких сынов дарит людям… А что – мы??? Благодарим ли? Делаем ли выводы? Читаем ли??? Да… привыкли. Богата история гениями. Современность пестрит «креативами» на грани безумия, будущее… – А он его видел – будущее… Жил в нем, творил в нем. Дышал им. Он – знал!!! Знал!!! И – знает. Петербург – ох, как он тебя боялся, как тревожился – полюбить. Как видел острог души – в каждом уголке твоих узких улочек и широких проспектов. Как оглядывался, поднимаясь по парадным лестницам… Как свои пять пальцев – знал все черные ходы, наощупь… На вкус, на нюх, – знал… Город-праздник, город-реквием, город-грех, город-раскаяние. Город – Обретения Веры через пороки… Город – Красоты и ее Победы! Как был жесток ты, град Петров, с ним… как милостив… Но, ты никогда не был безразличен к своим певцам… Город – где посвящают в Таинство… город, окованный тайнами… Раб или господин? Друг или враг? Нет, Петербург, – ты сам по себе, ты – позволяешь жить на твоих улицах, а в сердце – берешь не многих… И то – с осторожностью… Честно. Сурово. Понятно. Достоевский тебя понял. А ты?…». [4]
Прозвучи этот монолог в классе, перед этими «прогрессивными читателями» из «Новой газеты», и эта категоричная в своем невежестве молодежь кинулась бы читать Достоевского, но…
Вопрос прозвучал и попробуем ответить на него, адресовав его девушке, которая с 15 лет, вот уже 10 лет, не перестает удивлять меня, погружаясь в Достоевского тогда, когда теряет душевное равновесие.
Так она прочла «Преступление и наказание», «Идиот», «Двойник», «Униженные и оскорбленные», «Записки из подполья», «Неточка Незванова», Письма к жене, «Бесы», «Братья Карамазовы» (перечитывает, поскольку впервые прочла студенткой, и подготовка к дипломной работе не дала ей возможности погрузиться в роман так, как она того хотела).
Наблюдая все эти годы за ее непреходящим интересом, мне стало очень любопытно, что она находит для себя в этом писателе, герои которого могут только заразить своей безысходностью, но никак не помочь обрести состояние душевного комфорта. Ответ меня поразил настолько, что я не могла уже ее отпустить… Так Достоевского, к стыду своему, я никогда не чувствовала. Поэтому просто записывала за ней, открывая для себя заново и писателя, и свою дочь.
Первым произведением, которое она прочитала, было «Преступление и наказание». «Затем посмотрела фильм. Новый. С актером Владимиром Кошевым в роли Родиона Раскольникова. Его страдания зацепили. Затем в 10 классе проходили по программе. Перечитала. Понравились его внутренние монологи, доведенные автором до высшего напряжения. Нравился судорожный ход его мыслей. «Тварь я дрожащая, или право имею?» — не была столь значащей фразой, но Наполеон и право убивать — была интересная мысль. Запал в душу момент в квартире. Когда он с матерью, сестрой и Разумихиным. Никто не знает, что он убил. Потом, по его состоянию, которое он не может скрыть, друг догадывается, что и почему…
Раскольников ничего не сказал вслух, но Разумихин все понял. Толстой бы стал объяснять, что хотел сказать один, и что понял из его молчания другой, а Достоевский просто сделал читателя свидетелем этой сцены. Доведя ее до крайнего напряжения внутри героя. И это сильнее…».
Остановим ее здесь и посмотрим, о чем идет речь:
« – Я сейчас приду! – крикнул он, обращаясь к помертвевшей Пульхерии Александровне, и выбежал из комнаты.
Раскольников поджидал его в конце коридора.
– Я так и знал, что ты выбежишь, – сказал он. – Воротись к ним и будь с ними… Будь и завтра у них… и всегда. Я… может, приду… если можно. Прощай!
И, не протягивая руки, он пошел от него.
– Да куда ты? Что ты? Да что с тобой? Да разве можно так!.. – бормотал совсем потерявшийся Разумихин.
Раскольников остановился еще раз.
– Раз навсегда: никогда ни о чем меня не спрашивай. Нечего мне тебе отвечать… Не приходи ко мне. Может, я и приду сюда… Оставь меня, а их… не оставь. Понимаешь меня?
В коридоре было темно; они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга молча. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проницал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними… Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон… Разумихин побледнел как мертвец.
– Понимаешь теперь?.. – сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. – Воротись, ступай к ним, – прибавил он вдруг и, быстро повернувшись, пошел из дому…» [7]
Ее не надо было просить прокомментировать. Она уже была там – в этом темном коридоре, ловила рукой светотени, будто хотела показать без слов. «Понимаешь?» – впилась она в меня увлажнившимся взглядом. Мое молчание было о другом… Почувствовав это, она быстро проговорила: «Темный коридор, свет лампы и горящий пристальный взгляд Раскольникова, заставивший Разумихина вздрогнуть. И это «что-то странное», что «прошло между ними» … – и никаких слов. И предельная ясность. На этом построен Достоевский. Человек говорит, говорит, говорит и резко останавливается, молчит, а за него продолжает всё договаривать тот накал, до которого герой довел свой монолог. Это в воздухе. И это сильнее слов. Потом он идет к Соне…».
Признаться, я никогда не могла углубиться в Достоевского только потому, что внутренняя сила конструкции, которая называется фразой, у него так сильна, что я физически теряла равновесие и откладывала книгу, чтобы выйти из этой зоны турбулентности и вернуть голову на плечи. Конечно, меня стало распирать любопытство, какой он – ее Достоевский, и я готова была внимать ей уже не как учитель, а как ученица.
Ее Раскольников отличался от моего. Почему не Георгий Тараторкин? – поинтересовалась я. «Кошевой и Раскольников совпали. Тараторкин после Кошевого слишком фактурный, что ли, яркий, броский, а Кошевой – болезненного рассудка, светлый, со впавшими глазами…». И в этом тоже есть правда – в Тараторкине есть стержень, в Кошевом – надломленность…».
«Хотелось, чтобы его поймали?» – спросила я, вспомнив, как мои ученики когда-то радовались, что, покидая место преступления, он «в полном отчаянии» вдруг был спасен счастливой случайностью.
«Хотелось!» – ответила она тут же, и, поняв, что удивила, объяснилась: «Сначала убийство старухи воспринимаешь трагедией, потом в его голове разворачиваются такие мысли, они его так загоняют, что хочется, чтобы его поймали, чтобы прекратилось то, что со стороны называли болезнью, а на самом деле его съедала совесть».
Роман был прочитан ею раньше, до начала изучения Достоевского в школе. И, когда на уроке учительница спросила: «Кому первому признается Раскольников?», все назвали Соню. «Но там же был и Разумихин», – удивилась она. Признавшись, что давно не перечитывала роман, учитель попросила ее пересказать сюжет. «Это было честно с ее стороны. Жаль, что обсуждать было не с кем. Никто не читал», – с сожалением призналась она, потому что ей было что сказать и тогда, и сейчас. Достоевский привел ее к Альберу Камю, к которому она периодически переходила и в нашем разговоре.
«У Камю в романе «Чума» есть такие размышления, – открыла она тут же текст в телефоне: «Если случайно кто-нибудь из нас пытался довериться другому или хотя бы просто рассказать о своих чувствах, следовавший ответ, любой ответ, обычно воспринимался как оскорбление. Тут только он замечал, что он и его собеседник говорят о разном. Ведь он-то вещал из самых глубин своих мук, и образ, который он хотел открыть другому, уже давно томился на огне ожидания и страсти. А тот, другой, напротив, мысленно рисовал себе весьма банальные эмоции, обычную расхожую боль, стандартную меланхолию. И каков бы ни был ответ – враждебный или вполне благожелательный, он обычно не попадал в цель, так что приходилось отказываться от попыток задушевных разговоров». [5]
Так и монолог князя Мышкина, – перешла она к роману «Идиот». – Он говорит, говорит, рвет себе душу, пытаясь достучаться до всех, говорит о ценности времени, жизни…
«Князь вдруг замолчал; все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение.
– Вы кончили? – спросила Аглая.
– Что? кончил, – сказал князь, выходя из минутной задумчивости.
– Да для чего же вы про это рассказали?
– Так… мне припомнилось… я к разговору…».[8]
«Так часто бывает. – Люди не совпадают… Не проникаются… Не слышат… Или не хотят слышать, а ты – «из самых глубин своих мук»…» – опять увлажнились ее глаза.
«Униженные и оскорбленные» не понравились. – переключилась она, будто стряхнув наваждение, – Не хватило драматизма, все было ровненько беспробудно, это, как у Бунина в «Окаянных днях»: «…”Как? Семь повешенных?!” – “Нет, милый, не семь, а семьсот!” – И уж тут непременно столбняк – семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!». [6]
Так и здесь: одного, семерых можно представить бедными, нищими, обездоленными, а когда все – это воспринимаешь как норму… Чем-то напоминало «Воскресение» Л. Толстого, но не совсем Толстой. Героям Толстого я не могу сопереживать, и здесь не получилось. Как например, Идиоту, когда и за него переживаешь, и с ним переживаешь… А здесь все несчастные, нищета… Как обычно, но сочувствия не вызвало».
Чем может князь Мышкин быть настолько близким той, которая родилась и живет совсем в иной среде, в принципиально другом обществе? – не могла я не спросить, меньше всего думая услышать от нее: «У князя Мышкина склонность к желанию оправдываться, что и во мне сидит, но подавляется мной, вовремя осознав, что это только у меня в голове, что это мои тараканы… Камю, в сравнении с Достоевским, примитивен, не глубокий: в романе «Посторонний», в человеке, которого приговорили к смертной казни, – там не найдешь тех чувств, которые переживаются в такие минуты – перед казнью… У Достоевского же все монологи доведены до наивысшего пика напряженности».
Но сегодня ритм жизни иной, и общение иное – диалоги мгновенного точечного действия, заменяемые чаще смайликами. Почему Достоевский, было мне чрезвычайно любопытно.
«Когда ты переживаешь какие-то чувства и не видишь выхода, доводишь с Достоевским свои чувства до конечной точки опустошения, когда все, что происходит в твоей жизни, становится меньше этого чувства, не таким важным. Помогает подавленность плюс осень с приятными запахами, погружение в Достоевского усугубляет грусть, тоску не по чему-то конкретному, с названием, а – запахи, звуки, ветер с руки отца в окне машины, когда тебя укачало… – получила я ответ на свой вопрос.
Это каким близким должен быть для нее писатель, который один умеет, говоря о своем, совершенно, казалось бы, далеком, постороннем, снять с ее души такую тяжесть, с какой она не смеет, или не хочет, или даже не догадывается идти к живым.
В какой школьной программе и как это влияние гения Достоевского на юную душу можно сформулировать? И как от этого гения можно отказаться в угоду новомодной «новой этике»? Но, оказывается, можно поставить вопрос и по-другому: «Почему у чеченцев нет своего Достоевского?» [10]
Признавшись, что Достоевский ему не нравится как писатель, один наш известный историк отдает ему должное как мыслителю. «Язык Достоевского шероховат как плохо соструганные доски с занозами. Но, собственно, Достоевский и считается великим больше из-за своих мыслей, чем из-за литературных достоинств его произведений», [10] – пишет он.
Когда я попыталась объяснить дочери причины этой «шероховатости» языка Достоевского, посетовав на то, что, живя в долг, загнанный в конкретные сроки издателями, писатель не имел времени даже перечитывать, не говоря уже о том, чтобы отшлифовывать свои романы, но вот если бы… – Она тут же вскричала, говоря языком Достоевского, что именно этим он и интересен – своей судорожностью, своим надрывом, обрывистостью! – «Это не Толстой, который будет подробно расписывать чувства своих героев, объясняя все нюансы их души, прочитывая затаенные мысли, объясняя причины поступков героев, договаривая все за них…». – подчеркнула она достоинство, на ее взгляд, Достоевского перед Л. Толстым.
«В чеченской литературе мы не обнаруживаем описания героев, подобных Раскольникову, решающему вопрос «тварь я дрожащая или право имею?», или Сони Мармеладовой…, – пишет историк. – Почему в чеченской литературе нет никого, кто бы хоть отдаленно напоминал Ивана, Алешу и Дмитрия Карамазовых с их надрывным богоискательством? Почему у нас нет литературного героя наподобие князя Мышкина, которого за чистоту его помыслов и благородное поведение окружающие считали «идиотом»?..». [10]
Вопросы риторические. «У нас нет таких потерянных в себе, мечущихся между грехом и святостью людей, чьи сложные и противоречивые образы позволяли писателям создавать литературу, признаваемую гениальной, – размышляет историк, – Мы, чеченцы, в своем абсолютном большинстве чужды душевному надрыву, то есть психической неустойчивости, столь характерной для героев Достоевского. С самого рождения, с постижения первых азов жизни, нас учат, как себя проявлять в той или иной жизненной ситуации. Каждый из нас знает, как себя вести со старшими и младшими, с женщинами и детьми. Мы знаем, в какие устойчивые словесные формулы облекать свои высказывания по радостным и горестным поводам. Для каждого явления жизни, начиная от мелких бытовых и до онтологических масштабов, родители и общество снабдили нас устойчивым и единственно приемлемым ответом…
А раз нет таких «героев», то не может быть и писателей, которые с большей или меньшей талантливостью взялись бы их описывать… Будем радоваться, что в нашей литературе нет своего Достоевского, ибо его появление стало бы не поводом для национальной гордости, а диагнозом тотальной нравственной деградации нашего народа», [10] – подытоживает историк.
И с этим тоже нельзя не согласиться. Живи Достоевский на Кавказе, мир знал бы другого писателя. Он не нашел бы здесь почву для униженных и оскорбленных, для свидригайловых и мармеладовых, не нашел бы городских трущоб, но мне очень интересно, какой сюжет, какие герои представали бы перед ним в моменты творческих озарений, как он их называл, когда его плоть билась в судорогах, доводя его до полного изнеможения, а, наблюдавшие за ним со стороны, называли это эпилептическими припадками? С какой стороны, каким открыл бы миру Кавказ и кавказцев этот внутренний тектонический разлом, разрыв, происходивший в Достоевском, если он действительно в своих «Бесах» заглянул на десятки лет вперед?!
Читая Достоевского, пишущего о России и русском обществе, нужно быть готовым биться в судорогах с ним вместе в его реальности – он изматывает читателя, будто вколачивает в него свои, известные только ему одному идеи, но отпускает его уже совсем другим человеком, который все про себя и про других понял: за преступлением неизбежно наказание, и лишение свободы или жизни – не худшее из возможного…
Однако совсем другим писателем предстает перед нами Достоевский в «Записках из Мертвого дома». Он пишет так, как писал бы всегда, будь он свободным от кредиторов, не зависимым по срокам от редакторов, не страдающим от припадков эпилепсии, не спешащим никуда и никому ничем не обязанным. Потому самый мрачный период его жизни описан им спокойным, ровным и чистым слогом, а уголовники и каторжники – с юмором, участием и очень тонкими наблюдениями, выдающими в нем человека, способного, «вглядываясь с жадным любопытством» в тех, с кем ему предстояло жить ближайшие годы, увидеть, в первую очередь, «кучку кавказских горцев», из которой разглядеть и принять каждого, и полюбить лучшего из них – юношу Али (Алея).
Но это уже другая история, и другой Достоевский, из которого и произросли все те художественные гиганты, о которых мы говорили выше.
Это какой вершиной нужно быть самому, чтобы мысль достигала Неба!
И такую гору сравнять?
Нехорошая мысль.
Марьям Вахидова
Источник: Изба-Читальня
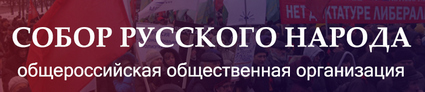
«Как хорошо, что большевики свергли царя с его бесчеловечной системой» – должны были выдохнуть счастливые дети, рожденные при социализме.”- совершенно точно уловила автор статьи чувства детей простых тружеников в эпоху чтроительства социализма. в Советскую эпоху развития Русской цивилизации! Но и социализм почил в бозе и новый век встал перед выбором…-но вот в том. что социализм почил в бозе- автор глубоко ошибается! Социализм не умер, а был съеден, сожран в самой России: Причины гибели социализма в России и РАЗВАЛА СССРА ЛЕЖАТ не в невозможности. Нереальности социализма, а В ИЗВРАЩЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, СОГЛАСНО его идейной основе, которая 1) руками троцкистов-ленинцев вменила русским трудящимся ВИНу за… Подробнее »
социализм не изжил себя, а даже не был реализован! Он был извращен. искажен и уничтожен… Кто все это сделал? Кто и как загубил социализм в России? Другие. нерусские племена были к нему совершенно не готовы! 1) Это сделала общесоюзная власть в СССРе- которая была вся нерусская. там кроме Ворошилова и Молотова не было больше ни одного русского человека. Общесоюзная нерусская и антируская власть и загубила социализм в России. Она захватила власть над Россией и русским народом и на основе лживой идеи о вине России за тысячелетнюю отсталость множества дописьменных диких народов. включенных в состав РосИмпернии, вместо того. чтобы их сгонять в… Подробнее »
И причем здесь извращенные. примитивные представления о социализме. которые вывел в своих БЕСАХ Ф.М. Достоевский? Али автор считает. что капитализм это вершина развития человечества? Но так не считают уже давно даже авторы “Римского клуба”!!!!