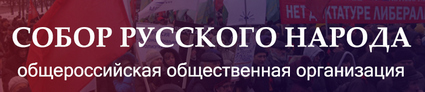К 220-летию Николая Языкова (1803–1846).
«Там, за далью непогоды, есть блаженная страна…, / Но туда выносят волны только сильного душой». Это из песни «Нелюдимо наше море», особо любимой студенчеством. «Будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней!» — громогласно распевала молодёжь минувших столетий. Слова в 1829-м написаны Николаем Языковым, чьё имя затерялось в лабиринтах веков.
А он был яркой личностью, водился с восставшими на крепостную систему Кондратием Рылеевым и Александром Бестужевым-Марлинским. Общался с Пушкиным, который восклицал: «Языков, кто тебе внушил / Твое посланье удалое? / Как ты шалишь и как ты мил, / Какой избыток чувств и сил…» и первым изъявил желание познакомиться. Разница у них 4 года, но «наше всё» пишет Вяземскому: «Ты изумишься, как он развернулся и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать… Он всех нас, стариков, за пояс заткнет». За пояс их Языков не заткнул, но славу поэта-вольнолюбца завоевал стремительно: «Я видел рабскую Россию: Перед святыней алтаря, / Гремя цепьми, склонивши выю, / Она молилась за царя». Покорность вечному ярму вызывает в его душе негодование: «Ещё молчит гроза народа, / Ещё окован русский ум, / И угнетенная свобода / Таит порывы смелых дум». Все критики, включая Белинского, до поры, до времени восторгаются «звучностью, блеском и энергиею его стиха». Он и сам в себе уверен: «Спокоен я: мои стихи / Живит не ложная свобода, / Им не закон – чужая мода, / В них нет заёмной чепухи. / В них неподдельная природа, / Свое добро, свои грехи!»
Про хмель и радость
Слыл «питомец жизни своевольной, беспечно-ветреный поэт» остряком, балагуром и превосходным товарищем. Широкоплечий, румяный, с высоким лбом в обрамлении светло-каштановых кудрей и весёлыми васильковыми глазами. Родился в Симбирске, в семье помещика, принадлежавшей губернской элите. Учился в Петербурге и Дерпте (Тарту) — на философском факультете знаменитого университета. Обожал пирушки, великолепно фехтовал, но «женщин боялся, как огня»: «Когда душе моей опасен / Любви могущественный жар — / Я молчалив, я не согласен, / Я берегу небесный дар…». По обыкновению, его изображают в этот период «певцом вольности и хмеля». Но эпикурейская тема была вторичной. Один из лучших исследователей Языкова Марк Азадовский считал значение «вакхическо-эротических» мотивов в его творчестве преувеличенным. Гораздо важнее для него дружба, братство, свобода.
В 19 лет он задаётся вопросом: «Где твоя родина, певец молодой?» — / «Где берег уставлен рядами курганов; / Где бились славяне при песнях баянов; / Где Волга, как море, волнами шумит / Там память героев, там край вдохновений, / Там всё, что мне мило, чем сердце горит». Уже в Дерпте он заряжен на патриотическую поэму. Вживается в эпохи, русскую и всеобщую историю, противостояние Москвы и Новгорода: «Зовем свободу в нашу Русь, / И я на вече — я на небе, / И славой прадедов горжусь…» Пишет брату: «где же искать вдохновение, как не в тех веках, когда люди сражались за свободу и отличились собственным характером».
Скажи, кто твой друг
Кто не живёт духом Родины, никогда не поймёт её. Опирайся на свой ум, корни и традиции предков, не равняясь на Запад. Эти устремления сводят Языкова — сперва заочно — с любомудрами, увязывавшими нашу культуру с православием и патриархальным укладом. Приехав в белокаменную без диплома, но созревшим «жить самобытно, неизменно / Для дум заветных и стихов!», он остановился у Киреевских. Дальше знакомство с Погодиным, Аксаковым, Хомяковым, под влиянием которых интерес к героике Отчизны вспыхивает с новой силой: «Хвала К. Аксакову за возобновление почтенной старины нашей, так бесстыдно, безбожно забываемой ветреным потомством». Славит «дела воинственных славян»: «Рукой и сердцем славянин, / Я наши стану петь победы / И смелость князя и дружин». Его «Песню короля Регнера» Денис Давыдов возил за пазухой как волшебную ладанку. От Петра Васильевича Киреевского — «человека хрустальной чистоты и прозрачности» заражается собирательством народных песен, вовлекая в дело родственников и знакомых всей Симбирской губернии: «Тот, кто соберёт сколько можно больше народных наших песен, сличит их между собою и издаст книгу — положит в казну русской литературы сокровище неоцененное и представит просвещенному миру чистое, верное, золотое зеркало всего русского…».
Тщательно готовит свой первый сборник (1833 г.), который читался с лупой, вызвав бурную реакцию, закончившуюся общественным размежеванием. Сам Языков с этих пор, по словам Азадовского, пошёл уже безраздельно с будущими славянофилами: те обрели своего поэта, поэт — свою партию. Белинский недавно заявлявший: «Смелыми и резкими словами и оборотами Языков много способствовал расторжению пуританских оков, лежавших на языке и фразеологии; его поэзия была самым сильным противоядием пошлому морализму», теперь «беспощадно бил по Языкову, потому что прекрасно понимал его силу и то значение, какое имеет его поэзия в боевом арсенале противников. Славянофилы стремились сделать из Языкова центральную фигуру русской поэзии; Белинский же заставлял видеть в нём только центральную фигуру славянофильской поэзии». И страсти закипели неистово. Вот Языков встаёт на защиту лекций Степана Шевырёва в Московском университете: «Читает прекрасно и лекции превосходны: они не нравятся западникам, будучи напитаны духом православия». Откликается и в стихах: «Тебе хвала, и честь, и слава! / В твоих беседах ожила / Святая Русь — и величава / И православна, как была: / В них самобытная, родная / Заговорила старина, / Нас к новой жизни подымая/От унижения и сна. <…> / Твои враги… они чужбине / Отцами проданы с пелен; / Русь неугодна их гордыне, / Им чужд и дик родной закон, / Родной язык им непонятен, / Им безответна и смешна / Своя земля, их ум развратен / И совесть их прокажена». В ответ гневные стрелы. Почему так ополчались на него? «Потому что за родную / Старину и за своих / На врагов и нехристь злую / Восстает мой русский стих, / Потому что не хочу я / Немчуры и не даюсь / Ей в неволю, и люблю я / Долефортовскую Русь…».
В 1842-м Белинский под псевдонимом Пётр Бульдогов публикует оскорбительный памфлет «Педант», обозвав Шевырёва «кликушей», а его сторонников «нашими». Языков даёт отпор посланием «К ненашим»: «О вы, которые хотите / Преобразить испортить нас / И онемечить Русь, внемлите / Простосердечный мой возглас!». Окрестив автора «злобным реакционером», все — от Некрасова до Герцена разразились на «донос в стихах» едкими пародиями. Ещё раньше Языков пригвоздил симпатизирующего католицизму «пошло-чопорного паписта» Чаадаева: «Вполне чужда тебе Россия, / Твоя родимая страна! / Ее предания святыя / Ты ненавидишь все сполна. / Ты их отрекся малодушно, / Ты лобызаешь туфлю пап…» Он развенчивает всех, кто «под ветротленные знамёна / Заморской нехристи ушли, / И Запад ласково их тянет / В свои объятия». Те вопят о том, что ним верховодят националистические мотивы, что «вкус сплошь и рядом изменяет Языкову, что выражения его «фальшивые и намеренно простонародные».
Славянофилы возражают, что дарование его возмужало, что мало кто умеет «так счастливо пользоваться богатством выражений и неожиданностью оборотов нашего могучего языка». Что Языкова одушевляет пафос не ожесточения и озлобленности, а горячей любви к России, которую он воспевал, «как пламенный любовник». «Когда он говорит о ней, слово его становится огнедышащим, и глубоко отзывается в каждом из нас», — пишет Вяземский. А Гоголь замечает: «Имя Языков пришлось ему не даром. Владеет он языком, как араб диким конём своим».
Про Пушкина с Гоголем
Гоголь однажды наблюдал, как прослезился Пушкин над посланием Языкова к Давыдову: «Я помню те строфы, которые произвели у него слёзы. Первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже, было, признали бессильною и немощною, взывает: «Чу! Труба продребезжала! / Русь! Тебе надменный зов! / Вспомяни ж, как ты встречала / Все нашествия врагов! / Созови из стран далеких / Ты своих богатырей, / Со степей, с равнин широких, / С рек великих, с гор высоких, / От осьми твоих морей!»
У Языкова отношение к пушкинским творениям было сложно переменчивым. Он больше симпатизировал поэзии Катенина и Рылеева. А «Бахчисарайский фонтан», первые главы «Евгения Онегина», повести Пушкина и сказки за исключением «Царя Салтана» не восхищали. Но встретившись с Александром Сергеевичем лично — тот был в михайловской ссылке, он всецело покорён: «Певец Руслана и Людмилы! / Была счастливая пора, / Когда так веселы, так милы / Неслися наши вечера». Те незабываемые чувства отлиты в золоте стихов: «Тригорское», «К баронессе Е.Н. Вревской», «А.С. Пушкину»: «О ты, чья дружба мне дороже / Приветов ласковой молвы, / Милее девицы пригожей, / Святее царской головы!». Воспеты места, «где и когда мы: ты да я, / Два сына Руси православной, / Два первенца полночных муз, / Постановили своенравно / Наш поэтический союз». Кланяется и Арине Родионовне: «Свет Родионовна, забуду ли тебя? / Всегда приветами сердечной доброты / Встречала ты меня, мне здравствовала ты, / Когда чрез длинный ряд полей, под зноем лета, / Ходил я навещать изгнанника-поэта, / …Как сладостно твое святое хлебосольство / Нам баловало вкус и жажды своевольство! / С каким радушием — красою древних лет — / Ты набирала нам затейливый обед! / Сама и водку нам и брашна подавала, / И соты, и плоды, и вина уставляла/На милой тесноте старинного стола! / Ты занимала нас — добра и весела — / Про стародавних бар пленительным рассказом». Посиделки в такой знатной компании безмерно дороги его сердцу. Правда, начав создавать собственные сказки («о пастухе и диком вепре», «Жар-птица»), Языков будет подначивать Пушкина: «Дай, напишу я сказку! Нынче мода / На этот род поэзии у нас. / И грех ли взять у своего народа / Полузабытый, небольшой рассказ? / Нельзя ль его немного поисправить / И сделать ловким, милым; как-нибудь / Обстричь, переодеть, переобуть / И на Парнас торжественно поставить? / Грех не велик, да не велик и труд!»
Гоголя он называл «мой судия и богомолец», а тот признавался, что «Языков столкнулся с ним в горькие и трудные минуты жизни, в которые узнается более всего человек». Сблизившись в пору лечения Языкова в Германии, они уехали в Венецию и Рим. Но Языкову в европах душно и тоскливо. Тянет домой. Долгое заграничное лечение результатов не дало. Болезнь спинного мозга сломала Николая Михайловича в 43 года, Одно из поздних его стихотворений о мальчике, услышавшем от ангелов во время землетрясения в Константинополе слова «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Когда все вместе начали так молиться, землетрясение утихло. «Так ты, поэт, в годину страха / И колебания земли / Носись душой превыше праха / И ликам ангельским внемли. / И приноси дрожащим людям /
Молитвы с горней вышины», — завещает Языков.
Умер он зимой. В Никольские морозы. Похоронен в Даниловом монастыре. В 1931-м прах перенесли на Новодевичье.
При жизни у него вышли три книжки (1833, 1844, 1845 гг.), не охватившие всего написанного. Через 15 лет после ухода увидело свет первое собрание, довольно небрежное: без полемических посланий, а некоторые элегии публиковались по два раза. В ХХ веке интерес к Языкову возродили символисты, обнаружившие, что «его широкий дух раздвигал рамки современного стихотворчества», Николай Асеев объявил себя его учеником. «Советский писатель», «Гослитиздат», «Советская Россия», выпускали Языкова неоднократно, в том числе в большой и малой сериях «Библиотеки поэта». Серьезной биографии не появилось ни тогда, ни после, о нём писали чаще поверхностно. Нынешние издатели вовсе чураются языковского наследия. А жаль. Там пульс и дыхание русского кода. Языков помогает понять то, что происходит сейчас.
Татьяна Ковалёва
Источник: Слово