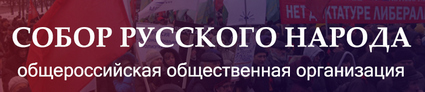К 145-летию Кузьмы Петрова-Водкина (1878–1939).
Почему конь, на котором восседает прекрасный юноша с иконописным лицом, красный? Потому что неземной, на крылатом огненном коне ездит Архангел Михаил. Помещённое в 1912-м над входной дверью выставки «мирискусников» «Купание красного коня» Петрова-Водкина произвело фурор. Такой мажорной небудничности доселе ни у кого не видывали. Кто-то набычился, кто-то пришёл в восторг. Ахнули все. От сражающей наповал новизны, пламени красок, смелости замысла. В простом вроде бы сюжете и дух времени, и образ России, и грозовые вести перемен. Вот оно знамя, вокруг которого можно сплотиться — подумалось одним. Другие (Репин, Бенуа) окрестили картину вульгарно нелепой. «Когда я нарисовал «Красного коня», говорили: это предчувствие войны, — напишет позже Петров-Водкин. — А когда началась революция, то сказали, что и она была предугадана мной». Знаковое полотно со сказочно космическим с косящим глазом конём стало одним из символов русского авангарда. Хотя приверженцем авангардной эстетики Кузьма Сергеевич не был.
Наука видеть
Его открытия: летящий в планетарные горние сферы «наклонный» ракурс, «трёхцветие» (красный, синий, жёлтый) и линии, близкие древнерусским фрескам: «если у русского нет влияния иконы — это не русский и не живописец». Стремясь соединить земное и вселенское, он не принижает, а поднимает человека к божественным истокам. Для объёма и всеохватности рассматривает предмет в движении, сверху, сбоку. Не зря свою методику преподавания назвал «наукой видеть». А какой подвергалась она резкой критике! По высказыванию того же Филонова, Петров-Водкин — крупнейший реакционер и в искусстве, и в его педагогике. Он защищался: «главный судья себе это я сам…», и гнул своё. Направлял учеников (в студии Елизаветы Званцевой, в Академии художеств) «к постижению верховных запросов бытия». Учил выразительным средствам под стать грандиозности социальных сдвигов, тому, как сделать зрителя соучастником художника, чтобы тот дорабатывал, додумывал картину. Среди его воспитанников Александр Самохвалов, Леонид Чупятов, Алиса Порет, умерший в блокаду от дистрофии Павел Голубятников, крымчанка Мария Ломакина, чья совместная с Петровым-Водкиным недавняя (закрылась 13 июня) выставка «Стихия Крым» в музее Москвы имела успех.
А у кого учился сам? У многих. Тут и частные классы рисования Фёдора Бурова в Самаре, иконописная артель, курсы Штиглица в Петербурге, Московское училище живописи, ваяния и зодчества и зарубежные штудии: «За полтора с лишком десятка лет ученичества много мне пришлось переиспытать на моей спине всяких учительских сноровок — и русских, и западноевропейских. Менее вредными были те, которые щенком швыряли меня в глубину, не осведомившись, умею ли я плавать».
Любимым наставником был Валентин Серов, гордо носивший профессию живописца и не приемлющий тяги к иностранщине. Говорил: «европейцы — умный народ, научили они нас глаза таращить, так давайте ими своё высматривать». Однажды, перебирая его эскизы, обронил: «Меня удивляет, как это вы так сразу достигаете парадности». У Серова этого не получалось, да и Петрову-Водкину оно не просто далось. Вот его чувства от наступления ХХ века: «Моя живопись болталась пестом о края ступы. Недодумь и недоощупь — это и есть искусство? Томился я, терял самообладание, с отчаянием спрашивал себя: сдаться или нет, утерплю иль не вытерплю зазыва в символизм, в декадентство, в ласкающую жуть неопределенностей? Бежать имело смысл только в совершенно новую обстановку, и я остановился на загранице».
Как быть не раздавленным
Отмахал тысячи верст на велосипеде до Варшавы, дальше поездом Мюнхен, где, взяв уроки у знаменитого словенца Ажбе, двинулся пароходом через Грецию в Рим. Жадно впитывал, не мог насмотреться на россыпи скопленного за тысячелетия изобразительного материала. Как переварить? Раздавит эта громада. В качестве противоядия «ворчал на греческое самодовольство, на чувственную роскошь Венеции, но всё-таки был лисой пред виноградом». Драгоценные блёстки всюду — в Вечном городе, по итальянским деревням и местечкам. «Очутиться с багажом провинциализма, с убогой техникой, среди высочайших образцов, и не иметь силы и смелости, чтоб противопоставить им собственные?». Друзья уже обосновались в своих стилях, а он пока в поиске. Самое сильное впечатление от Леонардо. «Тайная вечеря» одна из ритмичнейших вещей мировой живописи и одна из умнейших. Ни одного перебоя, ни одного композиционного узла, которыми грешит даже Микеланджело». От распиравших голову дум спасался работой.
Начал писать натюрморты. «Первый натюрморт перевернул шиворот-навыворот все мои благонамеренные умозаключения, смешал карты великих образцов». Из винограда на белой салфетке ничего цельного не вышло. Хозяйка комнаты останавливалась пред его этюдом: «Синьоре, у нас столько прекрасных девушек. Почему бы вам не написать красавицу-флорентийку». Он же, размышляя, кого благодарить в этой «исхоженной, издуманной мастерами искусства Флоренции, что сохранили её: климат ли благодатный, красоту окрестностей, вырастивших Джотто, хозяйку-старуху Бенедетту или сорванцов-мальчишек, ни одного носа не отбивших уличным мраморам», с упорством брался за новую композицию — из вещей геометрических. Опыты с натюрмортами защитят и в 1918-м. Вокруг интервенция, кровавые распри, мятежи, а у него на холсте прозрачно тихий «Утренний натюрморт». Его можно разглядывать часами, возвращаясь вновь и вновь. Как и «Розовый» — с веткой яблони, или «Сирень в стакане» — все умиротворяюще восхитительны. Стол, скатерть, обычный чайник…
Откуда же эффект спокойствия, гармонии, тепла? Специалисты объясняют это тем, что Петров-Водкин умел схватить «подвижную видимость» предметов, их ускользающую красоту. Летом 2019-го в новостных лентах мелькнуло: картина Петрова-Водкина «Натюрморт с черемухой» продана на торгах Christie’s в Лондоне за 11,7 млн долларов. Казалось бы, что особенного: спичечный коробок, обложка журнала, веточка цветущая, конверты — и почти физическое чувство радости созерцания. Разобраться в этом сложно. Он пишет, что натюрморт — одна из острых бесед живописца с натурой, где сюжет и психологизм не загораживают тему. Что в обиходной жизни «мы вскользь соприкасаемся с предметами, не улавливаем связи между ними, не замечаем сил, образующих предмет изнутри, строящих его оси. Благодаря невнимательности нас окружает много дурных предметов, притупляющих восприятие: пустотелые бронзы, фанерной наклейки мебель, целлулоидные куклы, дутые шары и прочая бутафория подделывательного смысла». Его внимание было безупречным.
Пушкинские маяки
Перебравшись с Волги на берега Невы, сражен чарами Петербурга: растреллиевскими ажурами, молоком белых ночей, иглами Крепости м Адмиралтейства. «Могло случиться, как со многими, что всю жизнь рисовал бы я каналы, ростральные колонны и памятник Фальконета. Да Пушкин не дал: не превозмочь было мне родного гения в этом деле». Вдохновлялся им всю жизнь: «Пушкин был мерилом художественного такта, вытравляющим из меня упрощенную самодельщину и провинциальное захлебывание Западом. На его пластических образах, стройности и простоте рисунка я учился живописи. Право, мне кажется, не хвастаясь, что у нас с ним много общего». Видел его, как живого, со всеми выходками гения, но, когда задумал написать (сидящим на диване, на ковре смятое письмо), что-то не склеилось, образ не раскрывался, и холст был изрезан. Однажды сделал набросок Пушкина Андрея Белого и себя (картина в частной коллекции в США). Одна из последних 1939 года работ «Пушкин на Неве»: на челе поэта печаль и величие. «Во все гиблые моменты русского искусства — будь то ложноклассика, натурализм, декадентство, Пушкин оставался маяком». И Ленин у него читает Пушкина. В 1924 по решению ЦИКа оказался Петров-Водкин в числе приглашённых делать зарисовки похорон Ленина. Тогда и задумал написать вождя, спевшего «свою песню на свой лад, а по земле она каждому своей стала». «Хотелось дать Владимира Ильича живым, уютную обстановку, где он сам с собой. Читает «Песни западных славян», а затем ляжет спать». В 1934-м портрет завершен, но признан властью «идеологически неправильным». Гадают, почему глаза Ленина так широко расставлены.
А вот у написанной в разгар Первой мировой «Богоматери Умиление злых сердец» глаза бездонно кроткие и полный сострадательной любви склонившийся лик. С молитвенно поднятыми вверх руками взывает она: остановитесь, не истребляйте друг друга. Тревожна и «Петроградская мадонна», держащая ребёнка на фоне революционного Петрограда. Материнство — важная для Петрова-Водкина тема. Он возвышал женщину и все его мадонны прекрасны.
В чём сила, брат?
Христа считал непонятым, в Евангелии пометил «бедный, одинокий». Собственные внутренние терзания всегда прятал: «Друзья видели во мне лишь мой талант, я был для других как пророк, всегда сильный и радостный, для которого не существовало страдание. Но сам я замерзал…». Одиночество мучительно, но «необходимо, чтобы ты искал, чтобы дать что-то миру. Задача человека — быть свободным гражданином Вселенной, смело озираться в путях звёзд, видеть божественное в назначении жизни». Из послания родственнику: «Не в деньгах сила. Сила, брат, в таланте да в уме. Можно быть свободным во внешности и подлейшим рабом по духу, и можно быть закованным в цепи железные и быть царём мысли».
Дочь Петрова-Водкина Елена Кузьминична вспоминала: «Папа никогда ни перед кем не лебезил, ни под кого не подстраивался. Всю жизнь был замкнутым и одиноким». Она родила трёх дочерей, имела шесть внуков и пять правнуков, умерла в 86 лет осенью 2008 года, накануне 130-летия отца. Оставила интересные мемуары о нём «Прикосновение к душе». Он и сам в книгах «Хвалынск» и «Пространство Евклида» ярко описывает свои странствия — искания, родню, как появился на свет в поволжском городке с наливными анисово-яблоневыми садами. Прадед был бурлаком, дед — ссыпщик хлеба, отец — сапожный мастер высокого класса, его сапоги с «форсом» знали в округе: «Эх, поют сапожки-то — сердце радуют… Девки от форсу млеют». От матери получил «стыд к пустому, бездельному времяпровождению». Анна Пантелеевна была в вечном колесе забот: «Кто-то закашлял — не заболел бы? Не перекисло бы тесто… Болезненно замычала Красотка, выбилась пакля, ржавеет крыша… Просыпаются в доме, а у матери уже весь двор напоен и накормлен, хохлится довольная птица, играют рожками козлята, воркуют под сараем зобастые голуби, в масле трещат пухлые лепешки и фыркает на горячих углях изготовленный самовар…». В письмах делился с ней сокровенным, ждал совета. Родом из тульских крестьян она прислуживала хлебным хвалынским воротилам, но рассуждала мудро: «По колоску, по зернышку, а сбякали целую страну мужики-то! Как вот её ни расхищала, ни продавала военщина всякая, а она, матушка, от моря до моря рожью да пшеницей распласталась. А уж в такой необъятности легко и Ломоносову и Пушкину великие дела совершать…».
Колоритна и речь бабушки Федосьи Антоньевны, видавшей французов: «И вот повалил Бонапарт на Москву — и конца-краю ему нет. Скрып от войска идет… всей деревней в лесах укрывались. Ведь, он, нехристь, в святом Кремле нечисть завел. Нутро, можно сказать, русское опоганил… Хвастался — всю-де страну покорю, вере басурманской предам всех… А Бог и не потерпел удали его, да и послал на него Кутузова-батюшку с ополчениями бессметными…». Судьба распорядилась, чтобы именно в парижах её внук встретил супругу — Марию Йованович, француженку с сербкими корнями, которой признался: «Можешь гордиться, что у Петрова-Водкина в мозгу засела женщина—и это ты!». Она подарила ему дочь и написала книгу «Мой великий русский муж…».
Цвет небесный синий цвет
Женившись в 1907-м, радость отцовства Петров-Водкин познал лишь 15 лет спустя. Он без конца экспериментировал и играл с цветовыми гаммами, и даже, когда родилась дочь, не удержался: поместил долгожданную малышку на месяц в синюю комнату, а потом в красную. Настолько верил в благотворное влияние цвета на человека и среду. В картинах часто добивался, чтобы от взаимодействия цвета с формой «глаз чувствовал контрастность, а не «ласкающие сочетания», пусть даже первое впечатление будет колющим. К излюбленному «трёхцветию» добавлял изумрудную, лиловую, сиреневую, фиолетовую тональности. Определял по цвету культуру живописца, склонности характера, и что несёт он – молодость или дряхлость. Характеризует цвет и прозрение и затемнение исторических эпох. Не случайно современная цивилизация сфабриковала гнилой цвет хаки.
Главным русским цветом Петров-Водкин считал кумачовый. Верил, что русский человек устроит вольную, честную жизнь, позорно будет жить только тунеядцам, какими бы они званиями ни прикрывались.
И как понятны сегодня его слова из 1932-го: «За механикой не стало видно человека. Культура заменилась цивилизацией, хищнически ненужно разоряющей землю и её недра. Возможность уничтожения стала кошмарно грандиозной, и на этих средствах разрушения построены благополучия держав больших и малых. Перепроизводство вещей сделалось подавляющим производителя и потребителя. Отняло у людей время для жизни, для любимого осознанного труда. Человек, воображая, что борется для счастья, опустошает себя, становится прилагаемым к аппарату».
Он трудился много и осознанно, был занят горячо любимым делом. В Хвалынске открыта галерея его имени, напротив памятник – художник с велосипедом и этюдником на плече. Рядом в доме, который купил родителям и любил приезжать сюда летом, музей. «Чем ближе подходит время к маю, тем скорее мне охота уехать в родное место, отдохнуть и поработать, сбросив с себя столичный хлам…» Теперь сюда съезжаются на пленэры собратья по цеху. Славят исключительный дар и мощь Кузьмы Сергеевича, шедшего вне течений, своей дорогой. Путь этот «слишком осторожный и медлительный, слишком пахнущий упорной тяжёлой работой», оказался благословенным и прямо ведущим к цели.
Татьяна Ковалёва
Источник: Слово