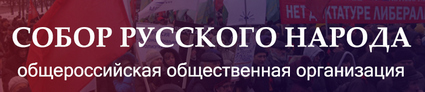О книге Максима Шмырёва «Хранитель павших флагов».
Шмырёв Максим. Хранитель павших флагов. М.: Тотенбург, 194 с.
Книга Максима Шмырёва «Хранитель павших флагов», прежде всего, книга очень личная. Цепь лирических фрагментов, переживаний, наблюдений, снов плетет причудливый узор на окне, внятный, прежде всего, самому автору. Что вовсе не означает, впрочем, довлеющего солипсизма. Да, это личный дневник, дневник души, со своей многоугольной логикой, но открытый, приглашающий к сопричастию, и подразумевающий диалог (правда, тоже особый, о чем скажем ниже).
Второе – это очень поэтичная книга. По сути, перед нами поэтические фрагменты, осколки, а то и просто стихотворения в прозе, воспоминаниях, и, опять же, снах.
Ну, а, чтобы сразу определить читателя (на что похоже?), то, наверное, на «Опавшие листья» Вас. Розанова. Вот так, в двух словах. Причем, как мне показалось, совершенно намеренно. Автор искал форму, чтобы собрать свой собственный «короб первый», и счастливо нашел её в авторе на него похожем – таком же воинствующем консерваторе, философе повседневного, способном выхватить глазом мелочь, но так, чтобы показать ее настоящее, присущее ей (и часто совсем не мелочное) место в Божьем мире.
Ибо, главное, что надо сказать об этой книге – перед нами, несмотря на всю ее кажущуюся фрагментарность – целостный космос, в котором явлены все необходимые категории и элементы: горизонты, стороны света, иерархии, вертикали, вершины, бездны, пронизывающий все это свет, и, конечно, время… Книга вообще наполнена не столько пространством (которое крошится, развоплощается, тает), сколько временем. Но временем тоже особым. Оно тоже как будто крошится и сыпется по границам мира, и свет играет на его осыпающихся блестках, и эту игру фиксирует глаз философа: «Время покидает тесные коробки часов, раскручиваясь как пружина в насыщенных сюжетах сновидений, отмеряя секунды шагами одиноких пешеходов, скользя в размытых очертаниях домов и автомобилей…». Само время здесь лишь – «маскировка вечности»…
У меня вообще сложилось ощущение, что делом своей жизни Максим Шмырёв избрал именно это – фиксировать распадающиеся элементы Божьего мира, покуда они окончательно не исчезли. Потому что перед нами, конечно, мир исчезающий, мир конца, мир эсхатологический.
Изначальный божественный порядок космоса не просто нарушен, и даже не просто находится в состоянии распада и катастрофы, он, я бы сказал, схвачен в момент апокалипсического взрыва. Только самого взрыва здесь нет. Автор наблюдает его отрешенно, как римский стоик, как некий Марк Аврелий, который смотрит на крушение империи с высоты, скажем, Эсквилина, стремясь запечатлеть фрагменты, может быть и не столь значительные, но по эйдосам которых через сто, двести, триста или три тысячи лет можно было бы империю воссоздать. Этот рязанский домик, это «бабкино зелёное пальто с дыркой в кармане, через которую выпал и куда-то закатился Советский Союз», эту старую елочную игрушку, которую по прошествии тысяч лет Творец мог бы взять и повесить на свою вечную Новоиерусалимскую елку, на которой такими же елочными игрушками висят все империи, которые здесь давным-давно превратились в пепел, белый снег, белую золу…
Может быть, все эти наблюдения и вообще – для одного только Господа Бога? Может быть, с ним одним этот диалог? «Это священная история. Она есть у каждого» – справедливо. А можно сказать и так: эти вновь опавшие листья – философия о самом незначительном, том, мимо чего девяносто девять из ста пройдут, не заметив. Вместе с тем, именно из незначительного ткёт время ковер бытия. Чтобы, собрав горстку этих фрагментов, пробежав по ним, незаметно для себя вдруг осознать, что оказался – во вновь сотворённой вселенной: «И всё это — сосны, книги, солнце и август, а ещё звёзды, целые россыпи звёзд — всё казалось указателями, приметами, рассыпанными камушками, отмечавшими долгий путь, чья длительность есть только маскировка вечности»…
Ну, хватит теории, древо жизни зеленеет в листах, и сейчас нам это придётся доказывать:
«Свет падает на книги: «Французскую средневековую лирику», маленький красный томик Готфрида Бённа, сползает вниз — к «Морю исчезающих времён» Маркеса. Как это бывает утром, меня охватывает чувство прибывающего времени — медленно-медленно, ведь вечером оно убывает, шумно проваливается в таинственный тёмный провал, который открывается, когда стрелки смыкаются на двенадцати. Мне кажется, что вечер задаёт другой темп письма: быстрее, шумнее, будто бы слова кружатся в этом исчезающем времени. Утром же слова медленны, они протягиваются вдоль солнечного луча, почти сливаясь с ним — прозрачные и тихие, они почти невесомы, в них совсем мало времени. И пока на улицах проезжают первые поливальные машины, и ещё не прозвенели звонки будильников, меня охватывает чувство печали по неизъяснимой изначальной полноте — будто время скрывает своими ветками-стрелками вечность».
Согласитесь, что я прав. Или:
«Остров погибших кораблей… все они идут ко дну, забываемые, теряющие черты, сливающиеся с глубинной темнотой. С ними, связанный нитями, которых в реальности не придумаешь, иду и я. Мы движемся к острову по ту сторону света…»
Или:
«Первые жёлтые листья летят вниз — как солдаты, погибшие в первые дни Великой войны, под рокот августовских пушек, ещё не знавшие грязи и сырости окопов, не увидевшие финала, ничтожного и для победителей, и для побеждённых — в парадной форме, золоте и синеве, лучшая жатва Бога, его струящееся воздушное зерно…
Поэзия часто начинается с метафоры, открытия удивительной связи между людьми, предметами, всем сущим. Ты зачарован, ты ощущаешь этот пронизывающий всё ток жизни, энергию творения: и вот — закатные облака движутся подобно слонам, капель звенит слезами сироток; а листопад… О, листопад переливается всеми цветами, вбирает в себя облака и звёзды, из него можно сделать всё что угодно — целый мир из листопада!»
И вот ещё:
«Только перечитанные, затёртые книжки имеют ценность, только многократно пережитое откладывается в сердце. Перечитывание — это долгая семейная жизнь, над которой не властны годы, это любовь, не знающая перемен. Это верность, сродни рыцарской, оставленная нам в буйстве мира сего»…
Эти затёртые книжки – как старые знамена, манифестации чувств, откровений, мгновений, или даже просто – усталости: нескончаемых обозов бесконечной войны. Полковнику никто не пишет? Да. И На западном фронте без перемен, и В стальных грозах, и Путешествие на край ночи, конечно, тоже.
Остывающее, останавливающееся время. Боевые горны, залитые дождем, запорошенные снегом. И лишь может быть еще там, вдалеке дудочка и барабан армии генерала Ли, все еще боевитые, живые, не сломленные, идущие в свой последний поход:
«Итоги «всеобщей грамотности»: две мировые войны, проведённые с невиданным энтузиазмом. «Нас убедил записаться добровольцами школьный учитель» (Ремарк). Миллионы погибших. Революции, уничтожение империй, построение механических цивилизаций-големов. Избяное тепло вложено в двигатели ракет, расточено в космической пустоте. «Летали, Бога не видели»… Буратино, не продавай свою азбуку. Сожги её: открой книжную клетку, выпусти буквы на свободу. Узри, как вдали поднимаются знамёна Неда Лудда».
Да, и великолепный экстремизм Теда Качинского, сжигающего эту цивилизацию дотла ради спасения из нее человека! Но все так же падают листья, падают яблоки, распадается пространство, тает серой дымкой время, исчезает мир… Остается не столько мысль – сколько запах, ощущение присутствия, и – эти, то ли удаляющиеся, то ли вновь приближающиеся дудочка и барабан – знамена войны сквозь все, какое ни есть, пространство и время…
Странные стихи, где «концовками рифм служат блуждающие огоньки», странные сны, и не менее странная реальность, населенная детьми, стариками, колченогими игрушками, щелкунчиками, книжными шкафами, старушками-гардеробщицами, разнообразными рыбами, сумасшедшими, потерянными, заблудившимися вещами, и потусторонними существами, порой внушающими лавкрафтианский ужас…
Мир, наполненный детством, юностью, старостью (и их звуками, запахами и цветами). Единственно, чего здесь нет – хлопотливой взрослости, с её жизненной логикой и здравым смыслом. И понятно почему: этого, казавшегося таким основательным и осмысленным, здравого смысла уже не осталось. Остался только его обгоревший остов, да далекие забытые полустанки заоблачных областей, небо города над погасшими небоскребами, на которое он никогда в суете своей так и не посмотрел…
Все эти «места на окраинах реальности», поземки по мерзлым тропинкам, ветер «от начала до устья времен», первичная бездна из начала Творения, похожая на «кусок холста – исходную точку или конечную станцию всех картин»…
Однако же, при всей эфемерной сновидческой плоти, центральное ядро этого мира довольно увесисто и предельно конкретно. Вот он, настоящий центр книги – очерк «Наш 93-й. Заметки об обороне Белого дома». На мой взгляд – лучшее, что сказано об этом месте и времени. Во всяком случае, что непременно останется в вечности как «фотофакт», моментальный срез, осмысление мгновения. То, что проясняет многоугольную логику книги. Именно сюда сходятся (или, вернее сказать, отсюда расходятся во все стороны света) ее многочисленные павшие флаги:
«Мы живём в эпоху Павших флагов. Имперский флаг пал в 1917-м, триколор — знамя белогвардейцев и коллаборационистов — дважды. Красный грустно спустили в 1991 году. Этих флагов было так много, они были так разнообразны, что для каждого дома, для каждой улицы нашёлся бы свой флаг. Но флагов не видно, стоят печальные дома, овеваемые жёлтыми листьями»…
Однако, флаги над Белым домом 1993-го – всё-таки есть. Это ткань самая что ни на есть живая: бьющееся сердце, его ритм, единственно возможный, о котором когда-то всё уже сказал Томас Стернз Элиот:
…В спокойной точке вращенья мира. Ни сюда, ни отсюда,
Ни плоть, ни бесплотность; в спокойной точке ритм,
Но не задержка и не движенье. И не зови остановкой
Место встречи прошлого с будущим. Не движенье
сюда и отсюда,
Не подъем и не спуск.
Кроме точки, спокойной точки,
Нигде нет ритма, лишь в ней — ритм.
Я знаю, что где-то мы были,
но, где мы были, не знаю,
И не знаю, как долго: во времени точек нет…
«Белый дом 1993 года — это не только воспоминание, это точка отсчёта, ритм, стихотворение. Мне всё меньше хочется связывать его с политикой и всё больше — расценивать как экзистенциальный опыт, событие, которому суждено перерождение и возвращение, в неведомой ныне форме. Наш девяносто третий год где-то в глубине, мерцает, светится, остаётся с нами, перемещаясь во времени и пространстве. Он забрал с собой многое в нас, он готов поделится многим — мы всегда можем присесть к его кострам и услышать, как над головой шумит и развевается знамя»…
Именно так. «Это священная история. Она есть у каждого». Или так:
«…Проходит столетие, другое, и кто-то находит стихотворение, открывает страницу с ним, — бывает, что он находит сухую бабочку, лёгкую паутинку или рисунок птички, выполненный пастелью, но иногда — порой — он вытаскивает из глубины выдержанное вино, слова, впитавшие в себя все шорохи часовых стрелок, все переливы столетней светотени — чудесное и неизменное. А тысячелетнее стихотворение похоже на горячий камень в руке».
Владимир Можегов
Источник: Завтра