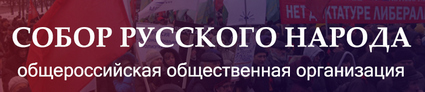В двадцатом веке действительно было много и очарований, и разочарований. Надо сказать, что это был последний век русского романтизма. Романтизм бывает идеальным, когда желает людям добра, когда стоит за красоту, за обаяние, за полноту. И бывает романтизм революционный, свирепый, который готов жертвовать многими и многими тысячами людей, чтобы достичь так называемого светлого будущего
У нас сегодня последняя лекция в этом сезоне, и слово «последний» имеет непосредственное отношение к теме нашей лекции, она называется, как вам известно, «Прощай, двадцатый век», так что будем сегодня прощаться. Эти слова появились на рекламных щитах в Москве в 2000 году. Без восклицательного знака, без многоточия, просто так, прозаически, без всяких чувств.
Мы не можем так проститься с ним. Не только потому, что мы родились в этом веке, жили в нем, и путь каждого из нас, вся наша жизнь прошли через этот век. Многие из близких нам людей уже ушли. Скоро уйдем и мы. Но это не значит, что двадцатый век исчезнет не только из истории, но и из памяти тех, кто останется жить.
Я говорю так не оттого, что я идеалист и думаю, что молодые люди, которые бренчат на гитарах на Чистых прудах, вдруг бросятся в архивы, к первоисточникам и начнут изучать историю двадцатого века, который и их, в том числе, породил.
Нет, конечно, такой иллюзии у меня нет.
Но что это когда-нибудь произойдёт, пусть среди узкого круга людей сначала, которые захотят узнать, в какой стране они живут, это случится.
Недавно я по совету одного моего друга прочитал книгу «Трагедия русской философии». Её написал Николай Ильин.
Книга очень интересная, она такая дразнящая, что ли. Почему? Потому что автор рассматривает русскую философию как науку, созданную исключительно в девятнадцатом веке. Все мы знаем, что начало двадцатого века — Серебряный век — дал нам Бердяева, Лосского, Шпета, Ивана Ильина, Франка, Флоренского — весь «философский пароход», который Ленин отправил в эмиграцию. Над этим пароходом до сих пор проливают слезы историки.
Автор считает, что философия Серебряного века, которая сейчас в такой чести, в том числе философия русской эмиграции, всего лишь двойник подлинно национальной русской философии девятнадцатого века. Это дерзкая мысль, и он её бросает читателю, не очень заставляя себя доказывать, почему это так, но его тезис заключается в том, что подлинная русская национальная философия неотрывна от русского сердца, русской души, русской истории и русского национального самопознания.
Что же касается философии Серебряного века, то это лишь красивые слова — о Боге, о Христе, о религии; это двойник, или, перефразируя известный афоризм о том, что дьявол – обезьяна Бога, философия Серебряного века – обезьяна философии девятнадцатого века. Он исследует работы братьев Киреевских, Страхова, Аполлона Григорьева и многих других русских философов девятнадцатого века, которых мы и не знаем порой. И это незнание коснулось даже образованной части русской интеллигенции, которая считает себя сведущей в истории нашей культуры. Конечно, вот так разом согласиться с автором этой идеи очень трудно, потому что, скажем, русская философия двадцатого века оказала безусловное влияние на развитие идей этого века. То есть без нее тоже обойтись нельзя. Хотя Ильин считает, что в истории философии многие имена подлинных русских философов вычеркнуты из списка, преданы забвению и просто недостойны представлять русскую философскую мысль.
Интересная книга. В ней я прочитал такой афоризм: если кто-то собирается куда-то идти, то он идёт назад.
Почему? Он не может идти в будущее, потому что будущего еще нет, будущее – неспелый виноград, как говорил Гоголь: сколько можно говорить о будущем, если это неспелый виноград? То, чего не существует? Естественно для самопознания русского человека, если он начинает идти, — то он идёт назад, к тому опыту отцов и дедов, который находится за его спиной.
Но это всего лишь добрая и красивая мысль. На деле же этого не произошло в конце девятнадцатого – начале двадцатого века. Но если говорить о двадцатом веке, который сейчас предаётся проклятию современными журналистами, то, с их точки зрения, в двадцатом веке для России ничего не было. Была жестокая власть, стояли вышки, колючая проволока, уничтожались миллионы людей, Гитлера победили, завалив немцев трупами, и так далее.
Продолжая эту мысль, один крупный чиновник недавно сказал мне: «А что, мы будем отмечать победу над Наполеоном? Какая победа? Почему такой пафос? Почему мы должны обижать те народы, которые в составе армии Наполеона пересекли Неман и воевали с нами? Мы же оскорбим их патриотические чувства, их самолюбие. И вообще в 1812 году не было никакой победы. В этой войне повинен царь Александр Первый, который гонял Наполеона по Европе, заставив его прийти в Россию».
Они стараются понизить, приглушить и просто утопить это великое историческое событие, которое совершилось в начале девятнадцатого века.
Мне бы хотелось, чтобы в этой лекции прозвучала другая идея, другая мысль: «Прощай, двадцатый век».
Что означает слово «прощай» на русском языке? Мы помним знаменитые слова призрака отца Гамлета, который, рассказав о злодействе Клавдия, говорит «прощай, прощай и помни обо мне».
Что значит — «помни обо мне»? Это значит — помни о том, как меня убили злодеи, и отомсти.
Но в русском слове «прощай», кроме значения «расставание», есть ещё и значение «прощение». Мне кажется, оглядываясь на двадцатый век, мы должны видеть это слово, написанное крупно, перед собой. Мы должны простить и тех, кто заблуждался, и тех, кто грешил, и тех, кто вёл людей по лживому пути. Может быть, мы не можем простить преступников, не можем простить убийц, палачей и предателей, но мы должны, обязаны простить всех тех, кто, может быть, не знал или не понимал того, что понимаем мы сейчас, из-за их непонимания, трагедии этого непонимания. Потому что многие из наших отцов, я говорю и о себе, шли в революцию, при одном упоминании о которой мы начинаем дрожать от ненависти, с чистым сердцем и без корысти. Были такие люди, и они за это поплатились. Таким был, кстати, и Шаламов. Я вам рассказывал о том, с чего он начинал.
Таким был и Солженицын. Он был марксистом. Эти заблуждения века, этот обман, эти соблазны, которые век нам предложил, – это большая иллюзия, предложенная людям двадцатого столетия. Ее нужно понять и милосердно простить.
«Великая иллюзия» — это название фильма, который поставил Жан Ренуар. Речь идет о Первой мировой войне, о разочаровании людей, прошедших через эту войну.
В двадцатом веке действительно было много и очарований, и разочарований. Надо сказать, что это был последний век русского романтизма. Романтизм бывает идеальным, когда желает людям добра, когда стоит за красоту, за обаяние, за полноту. И бывает романтизм революционный, свирепый, который готов жертвовать многими и многими тысячами людей, чтобы достичь так называемого светлого будущего.
Какой из этих романтизмов возобладал в двадцатом веке, я не берусь судить. Век этот начинался с войн, с каких-то гнилостных духовных веяний, к которым я отношу и литературу Серебряного века, конечно, далеко не всю, но то, что явления декаданса превалировали в литературе начала века — это абсолютно верно. И, может быть, один только Блок смог устоять против этих тлетворных веяний, которыми он тоже переболел, но от которых освободился перед смертью.
Был романтизм Блока, которому казалось, что в восстании масс, в сожжении дворянских усадеб слышна музыка, причём он слышал ее как музыку Вагнера, довольно жестокого немецкого композитора, которого, кстати, любил Гитлер. Неважно, Блок слышал эту музыку, он был поэт, он верил, что в конце концов поднявшаяся буря в России только очистит воздух, и люди сделаются другими.
Да, он ошибся. Он страдал от этого. От этого он и умер. И поэтому ему ничего не оставалось, как в поэме «Двенадцать» поставить впереди солдат, рушащих все на своём пути, Иисуса Христа. Кто увёл бы их от этого злого, чужого умысла, внушённого им кем-то. Это была последняя надежда Блока, великая, прекрасная надежда Блока. Великая, прекрасная надежда. Многие видят в этом несообразность. Как это: во главе пьяных мужиков, убийц этой бедной Катьки, идущих по России державным шагом, всем грозя и всех расстреливая, как может быть впереди них Христос?
Это вынужденная передислокация Христа из Евангелия в начало двадцатого века.
И ведь если мы сейчас обернёмся на этот век, то скажем себе, что он дал России и миру столько знаменитых, прекрасных людей во всех областях культуры, и не просто культуры, а жизни, науки, политики – даже политики! Это был век крупных личностей.
Я попытался записать себе, просто наугад, из русской литературы, и не будем брать Толстого и Чехова, ладно?
Но возьмем Бунина, Блока, Куприна, Шмелева, Заболоцкого, Набокова, Андрея Платонова, Ахматову, книгу Шолохова «Тихий Дон», Есенина, Булгакова, Солженицына, Шаламова, Чапыгина, Астафьева, Шукшина, Абрамова, Распутина, Казакова, Домбровского, Шергина, Писахова…
Какая бриллиантовая цепь великих русских имен… (Это все двадцатый век.) Совершено разных, пришедших в культуру с разных сторон, но обогативших ее, двинувших ее и, может быть, спасших культуру для будущего, потому что она, особенно сегодня, находится под непоправимой угрозой.
Все эти – уже не три богатыря, а трижды три, семижды семь богатырей, которые стоят на границе, как стояли богатыри возле Орла, на границе с Диким полем, так стоят сейчас эти люди, охраняя нашу культуру, и нас тоже. И все они — дети двадцатого века.
А художники? А композиторы? Пластов, Свиридов, Шостакович, Шапорин, Шабалин, Прокофьев… А прекрасная Уланова, прекрасная Лепешинская, Королёв, который запустил в космос Гагарина, Эмиль Гилельс, Ойстрах, Рихтер, Козловский, Лемешев, патриарх Тихон, Рахманинов — это все двадцатый век.
Надо сказать честно, эти люди достойны великих имён людей века девятнадцатого. Даже те заблуждения и страдания народа, которые он перенёс в двадцатом веке, те кощунства, на которые он вынужден был пойти, разрушая церкви и глумясь над Богом, породили и великую музыку, и чудесную живопись, и прекрасную литературу.
Двадцатый век — это и Столыпин, и Мечников, и Менделеев, и Павлов, и Вернадский, и Вавилов. Где вы наберёте сейчас такой список прекрасных учёных, которые не просто изучали клетку и объясняли, из каких частей она состоит, как это делает, например, писательница Улицкая, простите меня, со сперматозоидом. Она, кажется, по профессии генетик, у нее есть книга «Казус Кукоцкого», которая посвящена тому, как рождается плод, как соединяются клетки, это такая физиология человека, которая для той литературы находилась за занавесом. А впереди занавеса выходил Шаляпин, танцевала Лепешинская, и каждый новый сезон в Большом театре начинался с оперы «Иван Сусанин».
Ну а МХАТ? ( Я не буду даже называть имена.) А театр? Какие актеры были в двадцатом веке? Которых мы любили, ну, вспомните Евгения Леонова, хотя бы, этого прекрасного Винни-Пуха, на самом деле прекрасного актера. Таких великих актеров было множество на сценах театров.
Наконец, Россия в двадцатом веке дала своих героев. Я смотрел репортажи о праздновании Дня Победы – мало кто жив из солдат тех лет. А войну-то выиграли солдаты. Одного солдата я видел, с орденом солдатской Славы. Больше всех им досталось, и они рано ушли. Они болели, они прозябали в каких-то конурах, хотя им обещали всем отдельные квартиры… Это позор наш, что мы этого не сделали, потому что перед каждым из них, например, мы, дети войны, были готовы преклониться и до сих пор. И это было чудо народное, оно не только в нас было. Эти люди действительно существовали.
Были вымышленные герои. Но это не значит, что других не было.
Россия дала самой себе и миру целую плеяду героев.
А Чкалов и вся его команда? А папанинцы… Мы же воспитывались, читая о них всех, слыша о них по радио и любя их так же, как любили отцов и своих старших братьев, если они воевали. Ну, мой отец не воевал, он был в лагере, но я его любил, потому что он служил Отечеству до того, как его арестовали.
Он много сделал для страны, и таких тоже были тысячи.
Возвращаясь к войне с Наполеоном, помню памятные доски битвы под Лейпцигом, так там буквально одни русские фамилии. Деньги были английские, а жизни клали русские люди.
Англичане любят платить за чужие победы.
Я не говорю уже о полководцах, таких как адмирал Кузнецов, который первым из военачальников дал приказ флоту готовиться к отпору. Всем говорили, что это провокация, что не надо на нее поддаваться, а Кузнецов не послушался этого приказа и спас флот.
Таких людей тоже было много: а физики наши? Йоффе, Игорь Тамм, Капица…
Это были крупные люди, которые в условиях жестокого государственного давления и контроля сумели сделать столько, сколько не сделало нынешнее «племя». Не в упрёк ему это я говорю, а потому что это факт.
Поэтому, прощаясь с двадцатым веком, мы должны поклониться ему и сказать спасибо. Спасибо, что он был.
А если говорить о литературе, поскольку наша лекция литературная, последняя литературная лекция, то появление этих блистательных имён, которые я называл: Шукшин, Абрамов, Распутин, Астафьев и так далее — это был золотой финал двадцатого века. Когда русский язык, вся русская культура снова поднялась наверх, и оказалось, что она жива, что она хранит русский язык, продлевает ему жизнь. Это был великий взлёт нашей русской литературы.
Я много дней провёл, изучая современных писателей. Вышел из этой работы больным человеком. Было и больно, и страшно, и противно, и жалко, жалко…
В книге «Трагедии русской философии» приводится фраза англичанина Чемберлена, но не премьер-министра, а учёного: «Кто ниоткуда, тот никуда».
То есть если кто-то идёт, видя за собой пустоту, тот и придёт в ту же самую пустоту. И это уже трагедия современной культуры и литературы. Я это почувствовал ещё в девяностые годы, написав статью «Бедные дети распада». Она была напечатана в «Литературной газете» в 1993 году.
«Недавно я получил от одного молодого литератора книжку, название которой говорит само за себя: «Как я и как меня». Книжка была упакована в конверт, и когда я извлек ее оттуда, вместе с ней выпала газета, во всю ширину которой была помещена фотография свального греха, или, как сейчас говорят, «группового секса».
Автор сознательно вложил ее туда, чтоб всадить в меня заряд из двустволки — всадить и уложить наповал. Однако, оставшись жив, я полистал книжку. Густым матом покрыты в этой книжке все — от Льва Толстого до Георгия Владимова, не забыта и русская литература в целом: и ей анафема! Над кем еще посмеяться? Над «мучениками советского режима»? Пожалуйста! Над Н.А. Некрасовым? «Некрасов женился на проститутке». Над Булатом Окуджавой? «Булат Шалвович, сидящие в ж… приветствуют вас!» Над Пастернаком? «Особенно нам нравились три позы (речь идет о позах любви. — И.З.): «Дальняя дорога», «Крокодиловы слезы», «Борис Пастернак».
Так пишут наши мальчики, наши бедные дети распада. Иначе их не назовешь, ибо, как в физике распад часто связан со смертоносными последствиями, так и в жизни, и в литературе — эффект тот же. Распад — это отпадение от всего, это, естественно, и разрушение целого и это отравление воздуха, воды и духовной пищи.
Да, были в истории русской литературы примеры, когда Гоголь иронизировал над Пушкиным, а Достоевский — над Гоголем. Но то была не ирония истребления, а ирония любви: так дети подшучивают над своими родителями, даже боготворя их.
Дети распада есть дети распада: они не щадят никого. Они утверждаются на обломках, они готовы плясать на могилах. Для них все их предшественники — лишь мелкие статисты, играющие в пошлой драме, именуемой «борьбой с тоталитаризмом».
…Мне жаль этих детей — все же они наши дети. Но мне жаль и читателя. Грязь способна прилипать к одежде, от грязи зарождаются воспаления и инфекции, и, умножая грязь, мы умножаем болезни. Литература ужасно заразительна. Она в состоянии во стократ увеличивать то, что берет из жизни. Мат на улице, мат на заборах, теперь мат в романах и повестях — это гибель языка, это гибель почитания предков. Мне скажут: такова жизнь. Но литература не должна сталкивать человека в яму. Поэт не могильщик, он поэт.
Незадолго до этой лекции я разговаривал с одной девушкой. Она попросила меня книгу надписать, я надписал, и она говорит:
— Так хочется идеального, и как-то нет вокруг этой тяги к идеальному.
Действительно, когда я прочёл три десятка книг авторов, я вам назову их, современных писателей, награждённых всяческими премиями, и блещущих на западных книжных ярмарках, то я увидел, что никакого духовного запаса для пути к идеальному там нет. А самое главное, что меня больше всего оскорбило — там нет совершенно любви.
Я нашёл там, пожалуй, одно сильное проявление чувств: это постоянно воспроизводящаяся, жалящая и убивающая ирония. Вот основной мотив декаданса конца двадцатого века и начала двадцать первого.
Ещё Блок говорил: нас всех мучает бес иронии. А что такое ирония?
Слово происходит от древнегреческого εἰρωνεία, то есть «притворство, увёртка, насмешка».
Это — вопрос, ставящий в тупик. И ведущий в тупик тоже. Даль так трактовал иронию: «Речь, которой смысл или значение противоположно буквальному смыслу слов; насмешливая похвала, одобрение, выражающее порицание; глум. Иронический — глумный, насмешливый; похвала, которая хуже брани».
Он же приводит такие русские пословицы: «Над стариками не глумись», «В этом лесу леший глумится», «Глумилась верша над болотом, да сама туда и пошла».
После такого цветения русского языка в прозе конца века я столкнулся с безъязыкой литературой, а литература не может быть безъязыкой. Эта литература — компьютерная. И жизнь взята из компьютеров. История взята оттуда же. Произошло понижение во всех сферах культуры и жизни, и новых писателей, наследников Тургенева и Гончарова интересует прежде всего низ человека, жизнь его низа, вы понимаете, о чем я говорю.
Подняться, восстать над собой, увидеть этот свет идеала? Нет, уже слеп глаз, он видит только то, что ниже «ватерлинии». Конечно, есть отдельные таланты, которые выпадают из этого списка, но они и не находятся наверху, они не празднуют свой праздник на улице, это безымянные таланты, которые, безусловно, выйдут ещё, я в это верю, но сейчас мы имеем засилье отрицательной и глумливой иронической литературы.
Ещё в начале двадцатого века Иннокентий Анненский писал:
«Вот как получилось: если раньше гении творили бытие, то теперь таланты делают литературу». Делают, понимаете? Какое мертвое слово, оно относится уже к ремеслу, а не к искусству.
Да, я могу сказать, что на смену пришло поколение людей, много читавших, даже отчасти грамотных, кто-то их них изучал буддизм, кто-то углублялся в магию, как, например, Виктор Пелевин и другие, господин Дмитрий Быков, человек, безусловно, способный, издаёт роман за романом, готовый, кажется, лопнуть от изобилия — он читал и Фолкнера, и Роже Мартэн дю Гара, знает, кто такой Камю, и когда начинаешь по листочку собирать эту литературу, то видишь, что она вся заимствована и вторична, именно потому, что от земли, от жизни, от природы, от переживаний, от сердца ничего в неё не идёт. Все идёт из этих мертвых резервуаров.
Поэтому — «бедные дети», и мне их жалко. Но ведь эти «дети» уже выросли! Если в 1993 году они были дети, то уже двадцать лет прошло. Вот та же писательница Улицкая. Ей 69 лет уже, она уже переросла Чехова и дошла до возраста Толстого, а о чем она пишет? Она пишет о физиологической части существования человека, которую мы отправляем в разных закрытых от глаз местах и которая никогда не была предметом изображения в литературе. Вы не скажете мне, как князь Андрей Болконский мочился, или подробности родов Наташи Ростовой; все эти подробности есть в этих книгах.
Трудно представить себе, в какой стране происходит действие отдельных романов и повестей. Это происходит «где-то» вообще, но не в России. То есть эта литература совершенно лишена национального духа. Не только по каким-то вещественным приметам, но по своему самосознанию. Повторяю, господствуют здесь ирония и глумление, которые никогда не господствовали в русской классике, и в том числе в классике двадцатого века. Это невозможно представить ни у кого из русских писателей.
У Достоевского вы разве прочтёте, как Свидригайлов насиловал девочку? Нет, только мысль, только идея отталкивающая описана, но нет никакой физиологии.
Почти ни в одной современной книге вы не встретите описания природы. Человек выключен из неё. Но русского человека представить вне природы невозможно. Может, только городского мальчика, который ходил в английскую школу и не бывал на природе.
Природа же была одним из главных действующих лиц русской литературы и очищала её, и становилось легче дышать, когда люди читали пейзажные страницы. Здесь этого нет; здесь искусственный вакуум четырёх стен и долгих бесконечных разговоров, переполненных такими откровениями, которые я просто стыжусь вам зачитывать.
Вот передо мною книга Михаила Шишкина «Письмовник». Этот человек живет сейчас в Германии, но это неважно. Книга в прошлом году была награждена премией «Большая книга». Это как бы переписка девушки и её возлюбленного. Девушка не известно в каком городе живёт, это непонятно; возможно, это Россия, но все-таки трудно представить, что это Россия, а её возлюбленный воюет в Китае, в войне 1902 года. Такой смелый переброс внутри самой истории. Письма безответные: они пишут друг другу, но ответов не получают. Так чем же они делятся друг с другом?
Девушка рассказывает ему… Нет, читать я не могу, потому что здесь присутствуют женщины.
«Это только мальчикам кажется, что у женщины между ног тайна; а там мокроты, миазмы, бактерии».
Это пишет девушка своему возлюбленному. Вы можете представить Татьяну Ларину, которая пишет что-то подобное Онегину?
А что пишет ей этот воюющий возлюбленный?
«А сортир здешний, далекая моя Сашка, это нужно объяснить. Представь себе дырки в загаженном полу. Нет, лучше, не представляй! И каждый норовит наделать кучу не в дырку, а с краю. И залито все. Вообще работа желудка у твоего покорного и иже с ним — особая тема. В здешней отдаленности почему-то всегда болит живот. Непонятно, как можно посвятить себя науке побеждать, если сидишь все время над бездной и из тебя льется?»
Можно счесть это за пародию, но выдаётся это за откровения любящих друг друга людей.
Конечно, господин Шишкин читал «Гамлета», и, безусловно, без этой фигуры он не может обойтись. «Знаешь, о чем я тогда писал? О Гамлете. Вернее, о себе, что вот и у меня умер, а может, и не умер отец, а мать вышла замуж за другого, да еще и слепого, но совершенно непонятно, почему все должны травить друг друга и пронзать острыми предметами, не заливая при этом сцену кровью. А если все умрут без всяких надуманных злодейств и интриг, просто так, сами по себе, прожив жизнь — это что, уже не будет Гамлет? Да еще страшнее! Подумаешь, призрак отца! Детские страшилки …
А про Гамлета еще нужно рассказать, как однажды он купался в озере, к нему подплыл один дядечка и сказал: «Мальчик, ты неплохо плаваешь, но твой стиль нечистый. Давай я тебе покажу!». И вот этот учитель плавания поддерживал снизу, и рука все время соскальзывала с живота все ниже и ниже, будто случайно».
То есть Гамлет поставлен рядом с гомосексуалистом, если описать жизнь Гамлета правдиво, как они считают, то Шекспир тоже недотянул.
В предисловии к сборнику «Русские цветы зла», название которого звучит как манифест новой литературы, Виктор Ерофеев, их идеолог, пишет, что Достоевский до дна зла-то не дошёл. Мы должны это зло вычерпать, показать, как низок и гнусен человек. И когда он начинает черпать, простите меня, из уборной, то кажется, что он вычерпывает зло, а он вычерпывает всего лишь навсего… Вы понимаете что.
Вот такая теория: что там двадцатый век, где все прогнило, все отвратительно, от всего нужно не только отталкиваться, отказаться, нужно проклясть этот век. Как говорил Достоевский — «самооплевать» его. Нет, оказывается, можно и с Шекспиром тоже разобраться. Чего-то Шекспир недосмотрел, дожидался, видимо, этих толкователей.
Потом девушка начинает писать ему, как она входит в ванну, как она раздевается, как она выглядит голая, как она смотрит на свой пуп, там колечко, и он и есть пуп земли, то есть она переходит уже к категориям мироздания. Потом идёт речь о половых органах обезьян. Это все она пишет, девушка.
«Знаешь, чего я хочу сейчас больше всего на свете? Забеременеть от тебя всем, ртом, глазами, пупком, ладонями, всеми отверстиями, кожей, волосами, всем».
У него и паровозы занимаются любовью тоже. Эта книга считается шедевром русской литературы двадцать первого века.
«За кофе принялась подпиливать ногти, а нужно подпиливать жизнь». Каков уровень этого афоризма, да? Каков уровень этого письма…
В чем разница между декадансом начала двадцатого века и декадентами его конца, и начала века двадцать первого?
За декадентами Серебряного века — а мы знаем, что Толстой причислял к ним даже Чехова — стояла огромная культура. За ними стояла неумирающая, все время ищущая русская жизнь и мысль.
А за этими стоит пустота. И мне очень жаль, потому что среди них есть очень способные ребята. Тот же самый Дима Быков, который здесь, который там, который везде. Телевидение, кино, эстрада, романы… У него есть книга, которая называется «Календарь». Что он делает? Он берет какие-то юбилейные даты — ну, скажем, день рождения Ксении Собчак — и рассуждает по поводу Ксении Собчак. Тут же рядом родился, скажем, Филдинг, английский поэт. Он рассуждает о Филдинге. Когда он рассуждает о Собчак, я это даже не беру в расчёт; но в этом календаре есть два прекрасно описанных персонажа: господин Сурков, который сидел по правую руку Медведева, — и вот Быков берет этого громилу и превращает его в мокрое пятно, и делает это достаточно остроумно. То же самое, такую же расправу он устраивает над Радзинским, известным телевизионным чревовещателем.
Он их просто уничтожает. То есть когда надо уничтожать, когда надо глумиться, тут и талант появляется. А когда надо восхищаться, преклонять колени, любить — таланта нет.
Он пишет в этом «Календаре»: в таком-то году, такого-то числа впервые был поставлен «Ревизор». И что же он пишет о Гоголе? Что чиновники берут взятки, что Городничий сахарные головы у купцов берет, прогнила Русь и так далее… Поёт те песни, которые пели советские литературоведы, кого он же и ненавидит. Когда речь касается Набокова, Платонова или Гоголя, Дима Быков становится маленьким мальчиком из детского сада. Это не особенность его биографии или его природы, я не хочу над ним посмеяться, я просто говорю, что в сфере иронии они герои. Там, где посмеяться и поглумиться — мы молодцы, или рассказать о том, что находится между ног у женщины.
Как сказано, дьявол — в деталях. Эти детали ведут нас к какому-то дьявольскому началу полученной этими ребятами свободы. Ведь они не просто так появились. Это не какие-то там извращенцы или сумасшедшие. Конечно, они очень расчетливы. В том смысле, что чётко ориентируются на рынок, на спрос, ведь про то, что находится ниже «ватерлинии», будут читать, может быть, даже специально будут искать эти места. Что касается фантастики, как у Пелевина, то можно Толстого превратить в жандармского полковника, заставить его сражаться с какими-то чертями, а черти, оказывается, руководят Толстым, они, вообще, породили Толстого, и не один черт, а много. Вот такая фантазия играет у Пелевина, который считается таинственной фигурой новой русской литературы. Когда подходишь к этой таинственной новой фигуре, то хочется спросить: а зачем ты изучал английский язык? Зачем окончил хороший институт, если ты с Толстым так обращаешься? Превращаешь его в посмешище?
У Быкова есть роман о русских масонах двадцатых годов. О Петрограде там есть такая фраза: «город стоял, как обделавшийся старик». А почему? Потому что во дворце Белосельских-Белозерских поселился райком партии, тут Дом Советов, там Дом профсоюзов… Но при чем тут город, и зачем так старика-то обижать? Со стариками всякое бывает, да. Но нет у него к старикам жалости.
А мне их все равно жалко, этих ребят. И я думаю, что эта болезнь, конечно, не у каждого пройдёт. В целом в России это ведь дьявольское поветрие: кого кромсает и переделывает русские оперы? Русскую драму? Кто ставит Гоголя на коньки? Кто заставляет Хлестакова насиловать дочь Городничего? Эти несчастные дети распада.
Кто ниоткуда — тот в никуда.
Хочу закончить прокламацией Ерофеева. Она объяснит вам, откуда они, чем они гордятся и что они утверждают. В этих писаниях никогда не встретишь то, что встречается у русских писателей, а именно, взыскательное, суровое отношение к себе. Я имею в виду Гоголя, Толстого, да любого великого русского писателя возьми — он всегда, заглядывая себе в душу, недоволен собой, и честно и открыто может сказать об этом. А здесь этого нет. Здесь есть гордыня и любовь к себе. Как один сатирик написал — «живу, любя, умру, любя, люблю, люблю, люблю себя».
«Последняя четверть XX века в русской литературе определилась властью зла». Он говорит о «розовом христианстве» Достоевского, о том, что он писал для подростков, что Толстой лишён метафизической сути… Это Толстой-то лишён метафизической сути? Да если и есть эта суть в русской литературе, то именно в Толстом!
«… русское культурное общество в свое время получило такую дозу литературного проповедничества, что, в конечном счете, стало страдать чем-то наподобие моральной гипертонии, или гиперморалистической болезнью».
Дальше он пишет о том, что появилась новая литература, а старая — это сплошной бред и графоманство… Короче говоря, Ерофеев настаивает, что писатели в двадцатом веке остались без литературы.
Когда я пришёл в девяностом году работать в «Литературную газету» заведующим отделом русской литературы (меня пригласили как беспартийного, тогда это было модно), то мне на стол положили статью Ерофеева «Поминки по советской литературе». Довольно злая статья. Она лежала несколько месяцев, и я говорю: «Давайте её напечатаем». Мне заместитель главного редактора Кривицкий говорит: «Нет, это никогда не будет напечатано», а я сказал «будет».
И мы её напечатали.
Но теперь-то настало время писать статью «Поминки по антисоветской литературе». Время поминок не за горами.
«…новая русская литература выпорхнула из клети. Острота переживания свободы заложена в сущности ее существования …
Новая русская литература засомневалась во всем без исключения: в любви, детях, вере, церкви, культуре, красоте, благородстве, материнстве, народной мудрости (крушение народнических иллюзий, которые не рассеялись в интеллигенции за время существования советской власти), а позднее и в Западе.
Новая литература колеблется между «чёрным» отчаянием и вполне циничным равнодушием.
В литературе, некогда пахнувшей полевыми цветами и сеном, возникают новые запахи — это вонь. Все смердит: смерть, секс, старость, плохая пища, быт. Начинается особый драйв: быстро растёт количество убийств, изнасилований, совращений, абортов, пыток. Отменяется вера в разум, увеличивается роль несчастных случаев, случая вообще. Писатели теряют интерес к профессиональной жизни героев, которые остаются без определённых занятий и связной биографии. Многие герои либо безумны, либо умственно неполноценны. На место психологической прозы приходит психопатологическая».
Это декларация. Это высоко поднятое пиратское знамя. Но это ещё не все. Что делает Виктор Ерофеев? Он отменяет главный постулат нашей жизни, и литературы в частности. Он производит «отмену спасения» (это его слова). В результате вместо спасения — спасительный цинизм.
Вот, оказывается, где лекарство-то. Сейчас же пойдём во все аптеки и купим спасительного цинизма.
«Цинизм приносит облегчение, смягчает психологические трудности перехода от тоталитаризма к рынку; читатель получает долгожданную индульгенцию; его больше не приглашают к подвигам».
Дальше у него, оказывается, гомосексуалист Харитонов основал современную советскую гей-культуру в семидесятые годы.
«Теперь крепчающая гей-пресса прославляет Харитонова, он классик, его имя превращается в пароль.
…Строя тексты на отбросах социалистического реализма, он взрывает их неожиданным сломом повествования, матом, предельным сгущением текста-концентрата, состоящего из сексуальной патологии, тотального насилия, вплоть до каннибализма и некрофилии. Под коркой текста обнаруживается словесный хаос и бред. Мёртвое слово фосфоресцирует словесной ворожбой, шаманством, мистическими глоссолалиями, глухо намекающими на существование запредельных миров. Тексты Сорокина похожи на мясо, из которого вытекла кровь и которое кишит червями».
Кстати, в этом сборнике напечатан рассказ Сорокина «Заседание завкома». Это попытка злой насмешки над обрядами нашей старой жизни. Собирались собрания, прорабатывали отстающих, хулиганов. Начинается с выступления членов завкома, кончается всеобщим побоищем. Какую-то бедную уборщицу раздевают, кладут на сцену и начинают втыкать в неё трубы. Какая-то женщина расцарапывает себе ногтями лицо. Все превращаются в трупы.
Кстати сказать, смерть — желанный гость этой литературы. В романе Улицкой «Зелёный шатёр» насчитывается штук сто смертей, не меньше. И все они описаны физиологически отстранённо. У Толстого в «Войне и мире», кажется, один только Болконский умирает, а здесь — сплошные смерти, безжалостно и жестоко описанные.
Но при этом Ерофеев говорит о себе: мы далеко не слабые писатели.
Вот что произошло с новой литературой на рубеже веков. Произошла, между прочим, смерть наивности. А наивность — святая черта великой литературы. Разве Гамлет не наивен, бросив вызов морю зла своей рапирой? И Дон Кихот наивен. И Гоголевские герои наивны. И Хлестаков наивен, который не берёт взятки, а получает деньги взаймы. Наивность присуща и Толстому. И даже Чехова, которого, как медика по образованию, считают скептиком, циником. Но он не был таким. Он был в высшем смысле наивным.
А есть ещё писательница Славникова. Она пишет: «помечтать какую-нибудь мечту…. Железная трагедия молча кричала о себе… Голубев с эрекцией в штанах выпучился на табло». Просто неграмотная женщина.
И это всё книги лауреатов, лауреатов и лауреатов. Так называемая либеральная общественность, которая, конечно, руководит этим процессом, посылает этих людей за границу, как бы представлять русскую литературу, забывает, что на Западе при Пушкине, Жуковском, Гоголе, Вяземском и Лермонтове больше всего переводили Булгарина. Кстати, очень хорошего журналиста, но пошлого писателя. Его переводили во всех странах Европы, при живых Пушкине и Гоголе.
Так что ссылаться на то, что вас печатают во Франции, Германии, Занзибаре и ещё где-то — это ни о чем не говорит. Мы должны к этому относиться без раздражения, без зависти, без обиды за стариков, за консерваторов, за классиков.
Когда я рассказывал вам о русской литературе, я всё время пребывал с ощущением полёта; а сегодня ощущал спуск, все ниже, ниже и ниже.
Я не могу поверить в то, что русское слово, русская национальная культура будет погребена под этими обломками. Я так не думаю. Россия большая, таланты в ней есть, и они придут — в театры, в литературу, в науку. Может быть, придут и в политику.
После болезни бывает обновление. Человек или умирает, или выздоравливает.
Конечно, ни Россия, ни русская культура, ни мы как народ не умрём.
Пожалеем этих ребят, среди которых есть талантливые люди, но заблудившиеся во тьме свободы.
Игорь Золотусский
Источник – еженедельник “Слово”
На фото – М.А. Шолохов