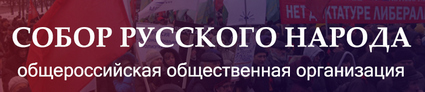Глядя как на западные развитые страны, так и на бедные общества мировой периферии, сразу видно ключевое отличие России — где, несмотря на четвертьвековой дрейф в сторону агрессивного капитализма, общественное сознание сопротивляется этой «неофеодальной» модели
Условный достаток без справедливости
Прошло 25 лет с момента распада СССР. «Дикие 90-е» давно позади, жизнь большинства россиян после 2000 года постепенно улучшалась и перед нынешним кризисом с материальной точки зрения достигла более-менее приемлемого уровня.
Бедность существует, но сформировался и довольно большой слой тех, кто может быть причислен к нижнему среднему классу — речь не идёт о жителях крупных городов, чей образ жизни и доходы сравнимы с европейскими, речь о массиве семей, которые могут позволить себе приобретение бытовой техники, отпуск на море, автомобиль. Но несмотря на это мало кто считает, что общество, в котором мы живём, справедливо. Даже те, кто оценивает свою жизнь и заработок как вполне приемлемые, чувствуют, что сами законы, по которым устроена современная жизнь, имеют какой-то сущностный изъян. Либерально-капиталистическая установка, предполагающая, что в обществе всегда кто-то будет получать всё, а кто-то — навсегда останется «на дне», не приживается в российском обществе.
Оно понимает, что это неправильно и несправедливо. Этот внутренний барометр пока ещё работает. Так, результаты исследования Института социологии РАН и Фонда Эберта «Двадцать лет реформ глазами россиян» (2011) показали, что самое распространённое по частоте переживания чувство у опрошенных — чувство несправедливости всего происходящего вокруг, его испытывали более 90% (а это представители самых разных социальных групп и профессий). И вряд ли за прошедшие несколько лет ситуация изменилась. Социологи ИС РАН в докладе 2013 года о бедности в России писали: «Именно работающие россияне наиболее остро переживают своё положение и, не видя связи между упорным трудом, честной работой, прикладываемыми трудовыми усилиями, с одной стороны, и улучшением своего положения — с другой, острее воспринимают весь спектр проблем, относящихся к неравенству».
При этом ощущение несправедливости связано вовсе не с неким мифическим «стремлением русских к уравниловке» — и бедные, и богатые, и средний класс в России абсолютно нормально относятся к идее неравенства в том смысле, что интенсивнее и продуктивнее работающий, более талантливый и более образованный человек имеет больший доход. Возмущение людей вызывает, как пишут эксперты ИС РАН, «избыточные, не имеющие легитимных оснований в глазах населения неравенства и отсутствие прямой связи между личными усилиями и положением в обществе».
Здесь россияне далеко не одиноки. Неолиберальная модель сама по себе и есть воплощение неравенства, а потому во всех странах, где она главенствует, в обществе проявляется и острое чувство несправедливости. Особенно заметно это в новой периферии западного мира — у тех, кто влился в него, ожидая, что сможет быть успешным в глобализации. Почти все они ошиблись — как пишет немецкий публицист Хауке Ритц, «благосостояние самого Запада гарантировано только для его ядра. Уже на такие «окраины», как Мексика в Северной Америке или Греция в Европе, западные гарантии материального благополучия не распространяются». Что уж говорить о «младоевропейцах», для которых уготована жалкая роль дешевой обслуги для пока ещё более благополучных соседей, и бывших советских республиках, понадеявшихся на «евроинтеграцию».
Бывшие граждане СССР воспринимают современную жизнь как несправедливую во многом потому, что в ней их лишают прав, которые уже несколько поколений привыкли считать неотъемлемыми — на жилье, на работу, на медицинское обслуживание, на образование, на доступ к культуре. Общественное сознание (по крайней мере людей среднего и старшего возраста) видит всё это в качестве утраченного идеала, вполне при этом помня обо всех минусах советской системы. Нынешние либеральные власти изо всех сил стараются эти ожидания уничтожить, настойчиво объясняя, что государство никому ничего не должно, а всё вышеперечисленное нужно покупать, а не получать.
Успех не для всех
Часть населения, особенно молодёжь, уже начинает воспринимать подобные установки. Как будет вести себя человек, который понимает, что общество делится на «виннеров» и «лузеров»? Кто-то попробует любой ценой попасть в число первых, сделав ставку на корпоративную карьеру, собственный бизнес, попробует стать частью властно-административных структур, чтобы со временем приобрести соответствующий «ресурс». Но социальные лифты сегодня работают крайне плохо, и большинство шансов на успех в любом случае не получит, особенно с учётом взятого курса на платный доступ к образованию и культуре. Самое опасное в той неолиберальной модели, которая работает в России, несмотря на всю патриотическую риторику, — это превращение общества в кастовое, с жёстким закреплением такой стратификации.
Глядя как на западные развитые страны, так и на бедные общества мировой периферии, сразу видно ключевое отличие России — где, несмотря на четвертьвековой дрейф в сторону агрессивного капитализма, общественное сознание сопротивляется этой «неофеодальной» модели. Чтобы оценить всю глубину разницы во взгляде на мир, приведу небольшой, но показательный пример. В одном из докладов о перспективах стран БРИКС, подготовленном Всемирным банком, мне встретилась следующая фраза: «В отличие от остальных стран БРИКС ситуация с уровнем человеческого капитала в России выгодно отличается — в этой стране всё население умеет читать». То есть, по мнению авторов, ситуация, когда не всё население умеет читать, вовсе не является из ряда вон выходящей для той группы стран, место в которой определено для нас. То, что россияне получают бесплатное и при всех его недостатках пока ещё довольно полноценное среднее образование, воспринимается как некий необязательный (а может быть, и нежелательный?) бонус.
Вот ещё одна иллюстрация того, насколько всеобщий доступ к культуре — это неестественная для либеральной западной модели ситуация. Режиссёр Альберто Вензаго снял недавно документальный фильм о российском дирижёре Валерии Гергиеве. В интервью о съемках он рассказывал, почему в фильме показано, кроме музыкантов, так много обычных россиян: «Это уже объясняется скорее культурным шоком… Я как-то привык, что музыка — это штука для богатых или как минимум состоятельных людей. Только они могут себе позволить роскошь ходить на концерты всемирно известных оркестров. А тут публика вообще другая. Это обычные, самые рядовые люди, у которых денег явно не так уж и много. А концерты зачастую вообще бесплатные. Это какая-то потрясающая жизнь, понять которую я тщетно пытался всё время съёмок». «Потрясающая жизнь» — всего лишь следствие советской системы всеобщего доступа, в том числе и к формам высокой культуры, бывшая тогда официальной политикой.
К какой же модели толкают нас? Это явно не то, привлекательное для многих наших либеральных мечтателей социальное государство, действительно существовавшее в Европе несколько послевоенных десятилетий, где был достигнут определённый баланс между интересами бизнеса, общества и государства. Всюду сегодня видна тенденция к ужесточению экономических условий, к сокращению мер гарантированного соцобеспечения.
Но на этом фоне по-прежнему звучат мантры о том, что эта система позволяет стать богатым или даже сверхбогатым любому, у кого достаточно ума и удачи. Бытует легенда о том, что в новый век технологий и инноваций каждый может стать Стивом Джобсом или Биллом Гейтсом (оставим здесь без обсуждения реальную историю «гаражных» IT-гигантов Силиконовой долины, когда выясняется, что они далеко не случайно получили венчурные инвестиции и с самого начала были связаны с госструктурами американской безопасности).
Сама идея, что можно лишь благодаря способностям стать миллиардером, не имея никакого унаследованного стартового капитала или «административного ресурса», всё больше выказывает свою абстрактную и тенденциозную сущность. Здесь весьма интересны исследования французского экономиста Томаса Пикетти. Он показал, что в странах Запада только для поколений, родившихся между 1910-ми и 1960-ми, богатейший 1% населения состоял из людей, для которых основным источником благосостояния была работа, а не унаследованный капитал (то есть они создали свое богатство с нуля). В 70-е годы 60% национального частного капитала приходилось на состояния, заработанные при жизни. В 80-е же, например во Франции, уже, наоборот, две трети частного капитала состояли из унаследованных состояний. Экономист полагает, что к 2050-м 90% всего частного капитала будут составлять деньги, полученные по наследству. Фактически это возврат к феодализму, разница лишь в том, что передаваемые по наследству состояния принадлежат не аристократическому классу, а «новой элите».
Новые маргиналы
Но обществу рассказываются сказки о том, что успех ждёт каждого, надо только получше стараться. Тем более что капитализм стал совсем другим — это же постиндустриальное общество, общество знаний, в котором якобы развитие человеческого капитала, то есть образование, знания и креативность каждого способны предотвратить и неравенство, и несправедливость.
Российские либералы с радостью подхватили эту идею и сейчас продолжают говорить о том, что-де индустриализация — это прошлый век, в нормальной стране более половины ВВП должны составлять услуги (хотя почему-то главным конкурентом главной постиндустриальной страны США, который неизбежно выйдет уже в ближайшие годы на первое место в мире, является Китай, сделавший ставку на масштабную индустриализацию). Ключевая идея теорий о «капитализме знаний» состоит в том, что, в отличие от капитала в форме денег и активов, знания и компетенции невозможно удержать от распространения, а значит, всё больше людей могут ими обладать и таким образом добиваться успехов в рамках либеральной модели. При этом само образование и доступ к знаниям в соответствии с этой моделью должен быть платным. Инвестируй в себя — и потом зарабатывай. Платное образование является важной частью такой социальной системы. На деле же такая схема не только не способствует появлению талантов, она лишь закрепляет схему неравенства, больше всего похожую на классическую кастовую схему. Нет денег — нет образования — нет шансов. Именно так всё выглядит в тех же США.
Так, экономист Чарльз Кении в статье «Ноw did the world`s rich get the way? Luck?» («Как богачи мира стали тем, что они есть? Удача?») несколько лет назад обосновывал, что, несмотря на убеждённость, в США главной причиной успеха или неуспеха являются собственные усилия и способности, факты говорят скорее о том, что обычному человеку никакие усилия не позволят «попасть в клуб» — обеспечить своим детям образование в хорошем университете и так далее. Не родившись в нужной семье, не попав в хорошую школу, человек автоматически лишён шанса на то самое саморазвитие и креативность, которые якобы уравнивают шансы каждого. Кении полагает, что нужно «обеспечить, чтобы места в лучших колледжах и работа в лучших фирмах доставались наиболее талантливым, а не выходцам «из нужного круга».
Чарльз Мюррей в книге 2012 года «Соming Apart: The State of white America, 1960—2010» («Распадение на части: состояние белой Америки, 1960—2010»), признанной одним из лучших исследований проблем неравенства последних лет, описывает распад традиционного американского общества как общества равных возможностей во имя реализации «американской мечты». На её место пришло обособление верхнего класса и верхнего среднего класса в отдельную социальную группу закрытого типа. Это элита, непосредственно влияющая в масштабе страны напрямую на политику, экономику и культуру: правительство, политики, представители законодательной и судебной власти, генералитет, топ-менеджмент ведущих корпораций, госорганизаций и НКО, руководители ведущих СМИ, продюсеры, режиссеры и писатели, формирующие кино- и телеиндустрию, журналисты и эксперты, публикующиеся в ведущих СМИ и интернет-ресурсах, авторитетные учёные и исследователи из научно-университетской среды. Плюс к этому добавляется верхний средний класс — его Мюррей определяет как 5% наиболее успешных бизнес-управленцев и профессионалов в сферах медицины, юриспруденции, производства контента в СМИ, а также в среде инженеров, архитекторов, ученых и преподавателей. Доступ в эту элиту весьма ограничен ввиду отсутствия социальных лифтов, она становится самозамкнутой, так как эти люди общаются, работают и взаимодействуют с такими же, как они сами. Если таких «новых элитариев» в обществе около 1%, то внизу, напротив, идут процессы разрастания маргинализации — по мнению Мюррея, формируется маргинальный класс белых американцев (30% от всех белых), выпавших из среднего класса. Этот нижний класс отличается от верхней группы образом жизни, типом питания, досуга, ценностями и моралью. У них плохое образование, в основном неполные семьи, в их среде высокий уровень криминала и т.п.
Можем взглянуть на Европу, в ряде стран которой процент безработицы среди молодежи достигает 50%. Какое будущее ждёт людей, не имеющих никакой возможности выбраться из ситуации маргинализации? Отнесём сюда также отдельную социальную группу мигрантов из стран третьего мира. Неолиберальная модель превращает мировую периферию в место выживания, откуда стремятся любой ценой попасть в благополучные страны Запада. Но и там мигранты, с одной стороны, не оказываются интегрированными в местное общество, что создаёт серьёзные социальные проблемы, а с другой — точно так же лишены перспектив, как и нижние социальные группы местного населения. При этом, с их собственной точки зрения, такая ситуация сама по себе несправедлива. Но, разумеется, никаких системных объяснений на этот счёт им никто не даёт.
Чем сильнее будет «закручивание неолиберальных гаек», тем больше будет разрастаться слой молодежи, лишённой всяких перспектив. Именно она становится субстратом для протестных движений, религиозного радикализма, терроризма и «цветных» бунтов. Говоря о механизмах последних, нужно добавить, что фрустрированным и не видящим перспективы оказывается и местный средний класс. Он также не связывает свои несбывшиеся ожидания с глобальным дисбалансом. В качестве решения всегда предлагается изгнать коррумпированную власть и олигархов, а уж там сразу расцветет честная конкуренция, откуда-то появятся новые рабочие места для умных и креативных и доходы будут всё расти и расти. Надо лишь свергнуть очередную тоталитарную диктатуру. Примеры всех, без исключения, стран, где прошли подобные процессы — бывшие советские республики с их «бархатными революциями», Арабская весна на Ближнем Востоке, ближайший к нам пример —Украина, — показывают, что эти социальное недовольство и наивность используются как таран для сноса существующей системы, на место которой приходит куда более худшая система, окончательно закрепляющая неравенство на уровне борьбы за выживание.
Парадокс заключается, однако, в том, что всё это преподносится как движение по направлению к важным и привлекательным ценностям. Мне лично доводилось слышать, как люди, сами ставшие жертвами разрушения экономики своих стран (например, человек, бывший квалифицированным инженером в одной из бывших республик СССР, теперь работает таксистом в Москве), оправдывают такую ситуацию. «Да, у молодёжи прибалтийских стран нет работы дома, но зато есть паспорт, с которым они могут её найти по всему миру. Пусть и у украинцев тоже будет такая возможность». Это напоминает пресловутый стокгольмский синдром — те, кто отнял у тебя возможность работать и чувствовать себя полноценным человеком, воспринимаются как благодетели, потому что они якобы дают тебе какие-то призрачные шансы выжить, уже не важно где и в каком качестве. Несправедливость воспринимается как норма, с которой надо смириться, а не бороться. И просто любым способом выжить.
Тайный неоколониализм
Точно так же, как лжива базовая неолиберальная модель о равных шансах на успех для каждого, лживы и утверждения о равных шансах на успех на уровне государств в условиях глобализации. В первую очередь это касается стран капиталистической периферии в Африке, Азии и Латинской Америке. Там, формально, воплощены в жизнь абсолютно все те принципы, за которые так ратуют либералы, — свободный рынок, конкуренция, минимальное госрегулирование.
А что на самом деле?
Фасад глобализации выглядит как мир без границ, где приветствуется мобильность, постоянный обмен информацией, ценностный «космополитизм», вовлечённость в интересные проекты и инициативы. Фактически же глобализация превратилась в неоколониализм и стала приводить к совершенно дикой эксплуатации в местах выноса производств. Вместо эволюции капитализма в сторону социальной ответственности (как предполагали оптимисты) капитализм прошёл по кругу — от своей «дикой» фазы в западном мире, породившей в итоге коммунизм, до фазы уступок национальному государству и построения общества, где «поднимаются все лодки», и далее с 80-х стал разворачиваться вновь к своим традиционным формам — почти всё богатство в западных странах вновь сосредоточено в руках нескольких процентов самых богатых, а эксплуатация в условиях глобализации вернулась к самым средневековым формам.
Свободное перемещение капиталов транснациональных корпораций приводит к тому, что государства начинают конкурировать за эти инвестиции, «демпингуя» собственным населением, — ведь капитал придёт туда, где стоимость рабсилы дешевле. Поскольку у большинства стран третьего мира возможностей по построению собственной, относительно независимой от внешнего мира экономики нет, они соглашаются участвовать в этом аукционе на понижение, навсегда закрепляя для своего населения роль «новых рабов» глобального капитала. Надо сказать, что и Россию активно принуждают к этой модели — постоянно приходится слышать сетования западных инвесторов о том, что-де оплата труда рабочих в России слишком высока.
Небезызвестны и тезисы отечественного миллиардера Прохорова о том, что россияне получают слишком высокие зарплаты и работают слишком мало, — а следовало бы установить 60-часовую рабочую неделю. Показательно то, что вытеснение картин полурабского труда и эксплуатации на периферию с точки зрения «золотого миллиарда» позволяет как бы не видеть происходящего и находиться в иллюзии, что на Западе построен мирный, относительно социально ответственный капитализм. В реальности же любой, кто участвует в массовом потреблении, — соучастник создания системы нового рабовладения.
«Вы не знаете, как здесь плохо, пока не увидите это сами»
Простейший пример — индустрия «fast fusion», названная по аналогии с «фаст фудом». Очень большая часть рынка одежды, особенно в недорогом сегменте, принадлежит концернам-производителям массовой одежды, все производственные мощности которых находятся либо в Юго-Восточной Азии, либо в Латинской Америке, реже — в Восточной Европе. Основная ставка в этой индустрии делается на максимально быстрый износ вещей в силу их низкого качества и быстрого выхода из моды. Задача в том, чтобы потребитель каждый год полностью менял гардероб. Для этого технология производства изначально предполагает утрату формы и цвета после нескольких стирок и т.д. Однако цены на такую одежду столь низки для западного потребителя, что люди привыкают к такой модели: купил недорогую вещь — недолго поносил — выбросил — купил новую. Мало кто задумывается, как чудовищно выглядит изнанка дешёвого легкого потребления. Причём двигателем этого потребления являются как раз они сами — те самые скромно, экологично и демократично живущие граждане «золотого миллиарда», занятые в городском сегменте услуг, которые не приобретают престижных и дорогих вещей и потому не ощущают за собой никакой вины.
Но незнание не освобождает от соучастия в системе глобального неравенства, истинная сущность которой лишь изредка становится предметом общественной дискуссии.
Так, в этом году в Норвегии разгорелся скандал, связанный с телевизионным реалити-шоу о моде. Идея была вполне невинной — несколько норвежских студенток отправились в Камбоджу на фабрику известного производителя одежды «fast fusion», где должны были поработать в швейном цеху, чтобы понять, как производится столь любимая ими модная и недорогая одежда. Молодые европейки ужаснулись, увидев условия, в которых работают камбоджийцы. Работницы фабрики за свою месячную зарплату не могли купить даже одну вещь из тех, которые шили, этих денег иногда не хватало даже на еду. В цехах нет ни кондиционеров, ни вентиляторов, многие по 10 часов работают стоя. Но они благодарны даже за это, потому что альтернативы нет — так, соседка одной из норвежек рассказала, что ее мать умерла от голода, так как не смогла найти работу. Несмотря на то что европейские девушки испытали шок, рыдали в камеру, говоря: «Вы думаете, что вы знаете, как здесь плохо, но на самом деле вы не знаете этого, пока не увидите, как это плохо на самом деле», — вывод, к которому они пришли в конце своего «вояжа», ужасает. По их словам, они поняли, что в мире много людей, которые вообще ни для чего не нужны, «они — ничто», и это хорошо, что у них есть хоть такая работа. Между тем, как сообщали камбоджийские профсоюзы, в 2014 году на фабриках Н&М, GАР и других западных брендов впервые за последние годы были случаи, когда работники просто умирали на рабочем месте после 13-часового рабочего дня, — и это, разумеется, лишь официальная статистика, а реальная ситуация наверняка много хуже.
Максимум, чего удалось добиться телешоу после этого скандала, — попросить руководство компаний объяснить, почему положение их работников в Юго-Восточной Азии так беспросветно? В ответ они получили либо отказы от комментариев, либо очень простое объяснение: это не наши фабрики, это местные предприятия, на которых мы всего лишь размещаем наши заказы. Нет числа схемам, при которых главные бенефициары транснационального бизнеса уходят от ответственности. Этот пример хорошо показывает, что несправедливость как полное отсутствие у целых регионов и народов возможности на выход из положения бесправной нищеты является не каким-то побочным эффектом глобализации и либеральной экономики в мировом масштабе, а лежит в самой её основе.
Особая роль России
Возможен ли выход из этой ситуации? Многие ждут формулировки альтернатив именно от России, хотя вряд ли современную Россию можно назвать государством социальной справедливости. Причины этих надежд очевидны. Если внутри России не всем видна внутренняя преемственность всех периодов её развития и доходит до того, что руководители государства называют её «молодой страной», для внешнего наблюдателя, будь то Запад или Восток, Россия и СССР — синонимы. Кроме того, опыт СССР для самих советских граждан имел как положительные, так и отрицательные стороны, тогда как мир в целом видел в СССР грандиозный эксперимент построения некапиталистического общества.
Существование такого государства действительно было уникальным событием в жизни человечества, что до сих пор даже не осмыслено достаточным образом. Нигде и никогда не было такой системы всеобщих социальных гарантий. При всех претензиях к коррумпированности советской элиты не существовало и близко такого разрыва в доходах, как сейчас. Можно спорить об идеологической несвободе и прочих пороках того государства, но в СССР на его развитом этапе не было голодающих, не имеющих жилья, не умеющих читать, лишённых медпомощи и т.п. Даже те, кто считал СССР тоталитарным, признавали, что это была диктатура чего угодно, но не капитала и богатства. Поэтому и в глазах всего мира это был масштабный, внушавший надежды социальный эксперимент создания реального справедливого общества. Поэтому главным фундаментальным последствием разрушения СССР были вовсе не только геополитическая переконфигурация мира, колоссальное перераспределение собственности и ресурсов и «шоковая терапия» перехода к жизни в условиях «дикого капитализма» для сотен миллионов людей из соцлагеря. Главным был, казалось бы, окончательный крах самой идеи общества, жизнь которого определяется не интересами максимизации личной прибыли. Комментируя Беловежские соглашения о прекращении существования СССР, Збигнев Бжезинский отмечал: «История коммунизма закончена. Коммунизм умер».
Помня о том, что именно Бжезинский называет и сегодня одним из главных препятствий для переформатирования России православие, мы должны понимать, что на Западе (понимаем в данном случае под Западом совокупность западных элит, выступающих за трансатлантический неолиберальный проект) под «русским коммунизмом» понимается не только и не столько воплощение идей Маркса или конкретное государство СССР с его военным и геополитическим потенциалом, сколько сама идея общества, основанного хотя бы в теории на равенстве, братстве и справедливости.
Вопрос «насколько реальная жизнь в СССР смогла приблизиться к этому идеалу» не так важен в этом контексте. Наиболее умные и глубоко мыслящие враги России хорошо понимают, что именно идеал справедливости или стремления к справедливости, лежащий в основе русского культурного кода, независимо от форм его конкретного религиозного или идеологического выражения, является главной «точкой сборки» русско-советской цивилизации. И, как кажется, всё еще способен стать базисом для построения сильного и конкурентного в мировом масштабе государства и блока его союзников.
Получится это или нет — вопрос, прежде всего, к самой России. Продолжение неолиберальных практик в экономике, особенно на фоне патриотической риторики и жёсткого антиатлантического курса во внешней политике, будет только усугублять тот «разрыв в сознании», который создаёт эта комбинация. Если Россия обвиняет трансатлантический лагерь в двойных стандартах, в создании зон хаоса, в экономической экспансии через механизмы разрушения суверенитетов, она не может и не должна воспроизводить те модели неравенства и несправедливости, которые заложены в неолиберализме и которые глубоко противоречат ментальности её народа. Только отказавшись от них, можно вернуть ощущение справедливой жизни своему обществу и стать лидером новой альтернативы в мировом масштабе.
Маринэ Восканян
Источник – общественно-политический еженедельник “Слово”