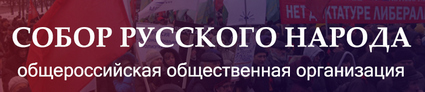На наших глазах рухнул СССР с огромными жертвами, и взрослые не могут объяснить детям и внукам. А старики моего поколения пытаются скрыть свою личную трагедию. Об этом немногие современные авторы оставили разрозненные тексты, и не в сухом и ясном стиле, а в форме эмоциональных текстов.
Я говорю о себе, может быть, кто-то прочитает и над чем-то подумает. Возможно, что я частично говорю и за моих друзей и товарищей, с которыми мы обсуждали нашу катастрофу – вина наша.
Мы, выйдя из советского образования, оказались наивными и невежественными перед зрелищем распада – и приверженцы советского строя, и сомневающиеся, и недавние диссиденты. Этот период (примерно 1985–1995) был заполнен непрерывными вопросами и догадками, поиском и чтением литературы, отечественной и зарубежной. Новые данные сразу публиковались в полемике или проклятьями идеологам перестройки. Содержание их было простое: факты, разоблачающие антисоветскую ложь, данные об экономике и социальной системе СССР, угрозы, которые создает реформа, полезные сведения из истории. Для сложных тем мы еще не были готовы, но поток простых фактов и доводов хоть немного охлаждал рыночные иллюзии и утопии. После 1992 г. все эти тексты без всякого красноречия увязывались с социальной реальностью.
Следующие 10 лет, не прекращая производства этих текстов, обсуждения сдвинулись к более сложным проблемам, которых мы не касались в советское время ни в лабораториях, ни кругу друзей. Так, в 1990-х гг. была поставлена проблема изменения массового сознания («манипуляции сознания»). Это было совершенно иное состояние нашего нового государства и общества – очень серьезное изменение. Описание вызревания русской революции и строительства институтов советского общества поставило очень много вопросов, которых обществоведение (прежнее и нынешнее) обходило и обходит. Все они важны для понимания, но, думаю, еще более они важны для молодежи, которой необходимо знать, как были устроены советские системы – им придется их осваивать, возрождать и модернизировать. Эти системы – основа базы их жизни, другой не будет. Похоже, что это все поняли.
В период 1995–2015 гг. социологи создали огромный массив эмпирического материала, в нем можно увидеть «скелет» (или карту) нашего будущего. На карте видны сгустки сложных проблем и узлы возникающих в них конфликтов. Раньше старались этого не видеть, теперь это полезный материал для учебных пособий. Знание полезно и правым, и левым, и самой власти.
Но из этого массива вылезает несколько жгучих проблем. Уже в середине 1990-х гг. мы стали обсуждать странную природу постсоветского кризиса, небывалого в промышленных странах, тем более без явной войны. Даже если бы власти приняли ошибочные решения, в государстве и обществе культурной страны должны были быть разумные силы, которые нашли бы аргументы, чтобы остановить разрушительный процесс. Как можно было почти 30 лет наблюдать уничтожение народного хозяйства и спорить о мелких вещах! Какое воздействие парализовало разум и волю общества, интеллигенции, научного сообщества, политического актива и государственных деятелей? Как мог этот коллективный психоз, почти мистический морок, охватить образованный народ?
Перед нами встала задача, о которой десять лет назад никто из нас и не подумал бы. Стали собирать источники, и отечественные, и иностранные, а также проявления симптомов этого неведомого состояния. Вывод был таким: распад связей и элементов народа и общества. Так вышли книги «Демонтаж народа» и «Потерянный разум». Мы считали, что была срочная потребность, и книги были не высшего качества. Наверняка кто-то еще напишет лучше. Но тогда надо было обратиться к методологии общественной науки. Уже 30 лет как стало очевидно, что общественная наука все больше и больше отставала от изменений в обществе и государстве. Так не были изучены и распознаны главные общественные процессы, которые и слились в системный кризис, приведший к краху СССР и глобальному потрясению.
На I Съезде народных депутатов СССР 27 мая 1989 г. Ю. Афанасьев заклеймил большинство депутатов (еще народных) как «агрессивно-послушное большинство». Были крики и даже рыдания депутатов, но большинство их не могло использовать свое количественное преимущество, поскольку они считали себя обязанными уговорить власть: «Ведь все мы, депутаты, хотим, как лучше». Факт: советская политическая культура обезоружила СССР. Консультанты из Гарварда нас изучили и подождали, пока мы дозреем у телевизора.
В послевоенный период советское обществоведение, вернувшееся в лоно истмата, отошло от методологии науки становления, на которой возник СССР. Система образования даже не могла объяснить, в чем же была инновация Ленина. Т. Шанин писал в своей книге 1986 г.: «Стыдливость, которую испытывают сегодняшние коммунисты из-за непоследовательности Ленина, оставляет в стороне его наиболее ценное качество как лидера – талант думать по-новому, мужество менять и способность убеждать или подталкивать сторонников всеми доступными способами» [Шанин Т. Революция как момент истины. 1997].
Заметим, что накануне Февраля в партии большевиков было около 10 тыс. человек, на порядок меньше, чем меньшевиков и эсеров. В феврале, выйдя из подполья, 125 организаций большевиков насчитывали 24 тыс., а в июле было уже 240 тыс., к октябрю 350 тыс. – большевики стали самой большой партией в России. А ведь не было ни прессы, ни телевидения.
К моменту революции состав населения России был представлен 85% крестьян и примерно 5% промышленных рабочих. Мировоззрение этой массы трудящихся влияло и на остальные группы – сословное патерналистское общество еще не преобразовано в классовое общество. Многие ценности, традиции и нормы соединяли общество.
Но процессы развития СССР шли в чрезвычайном темпе. После войны в СССР началась быстрая урбанизация. В 1950 г. в городах жили 71 млн человек, а в 1990 г. – 190 млн. Новые города населялись молодежью послевоенного поколения. Общество быстро менялось: в 1950 г. в СССР было 15 тыс. средних общеобразовательных школ, а в 1990 г. – 70 тыс. В составе работников быстро росла доля специалистов с высшим образованием: в 1929 г. высшее законченное образование имели 0,23 млн человек, в 1940 г. – 0,9, в 1950 г. – 1,4, в 1960 г. – 3,55, в 1970 г. – 6,9, в 1980 г. – 12,1, а в 1989 г. – 20,2 млн человек (14,5%).
Быстро изменялась структура занятости в народном хозяйстве. В 1928 г. в промышленности и строительстве работали 8%, а в сельском и лесном хозяйстве 80%. В 1970 г. соотношение было 38% и 25%. Но главное, стали быстро оформляться и обретать самосознание социокультурные группы. Одновременно от традиционных профессий очень быстро стали отпочковываться новые специальности – во всех отраслях.
Это было уже другое общество. Наследие русского коммунизма стало историей, а новые поколения номенклатуры стали паразитировать на ней и подтачивать ее. Уже времен перестройки молодежь показала невежество в представлениях о революции и строительства СССР. Это стало национальной угрозой.
Реальные успехи первого этапа, особенно Победа, для послевоенных поколений уже были историей. А для старших поколений они были «живыми» результатами огромного труда. В сознании старших поколений совмещали героическую и трагическую реальность. А ХХ съезд КПСС разрушил несущую опору государства – смысл прошлого. Когда его грубо вырывают, как это сделал Хрущев, в ответ получают цинизм и глухую, даже неосознанную ненависть. После ХХ съезда старики замолчали, а вышедшее на сцену послевоенное поколение, уже в большинстве городское, отличалось вольнодумством, и коммуникации между поколениями ухудшились.
Сейчас, вероятно, молодежь с трудом представляет фундаментальный фактор, на который не обратило внимания наше образование: советское общество до 1950-х годов было скреплено механической солидарностью. Это значит, что подавляющее большинство граждан по своему образу жизни, культуре и мировоззрению были очень близки. Все были трудящимися, выполнявшими великий проект. Это общество было похоже на религиозное братство. Особенно после Гражданской войны и до конца 1950-х гг. население было в состоянии «надклассового единства трудящихся». Война и бедствие, а позже победа, еще сильнее сплотили советских людей. Основная масса интеллигенции и служащих госаппарата, даже уже с высшим образованием, вышла из рабочих и крестьян. Она в главном мыслила в согласии с большинством. О состоянии населения можно сказать: антропологическое единство.
Такое единство (и тем более Победа и культ Сталина) было важным фактором, чтобы вожди и академики не видели новых изменений и ростков новых угроз. А предвидения не замечали. В 1924 г. А.В. Чаянов сделал важное суждение и прогноз: «В системе государственного коммунизма не существует ни одной из народнохозяйственных категорий, типичных для рассмотренных нами экономических укладов. Исключением является чисто технический процесс производства и воспроизводства средств производства.
Нарисованная нами картина, отражающая морфологию системы, мало способствует уяснению ее динамики. Но это, по-видимому, возможно лишь при длительном изучении режима и его функционирования и не ранее того, как его идеологи и теоретики создадут стройную организационную теорию».
И он добавил подстрочный комментарий в виде трех вопросов. Вот 3-й вопрос: «Какие меры могут предотвратить опасные возникновения в социалистическом обществе на основе новых производственных отношений новой классовой прослойки, которая могла бы создать такие формы распределения социального дохода, при которых режим в целом утратит присущее ему первоначально высокое идейное содержание?» [Чаянов А.В. К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства //А.В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. М.: Экономика, 1989, с. 139].
Сталин тоже сказал, о других угрозах: «Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы всё более и более ручным. Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает возможность оправиться для борьбы с советской властью» [Сталин И.В. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников: Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 года // Правда. 29 марта 1937 года].
Мы, студенты 1-го курса химфака МГУ, это услышали после ХХ съезда КПСС. Преподаватель представил нам это утверждение Сталина абсурдом, даже посмеялся. Тогда мы с приятелями это не посчитали абсурдом, задумались, но не нашли понятных оснований для СССР вывода Сталина. Классовых врагов среди нас не было, и почему «с каждым нашим продвижением вперед» враг «наших людей заводит в капкан»?
Между тем ни мы, студенты, ни преподаватели, ни академики и даже руководители КПСС не видели, что всякие изменения, даже «каждые наши продвижения вперед» создают риски. Это был фундаментальный провал нашего образования и науки.
Огромный изъян наследия советской символической сферы состоял в том, что из нее тщательно вычистили результаты обдумывания и переживания наших поражений и ошибок. Этим занялся Хрущев – обвинительно и разрушительно, а затем диссиденты – постепенно подтачивая легитимность СССР. А ведь поражения и ошибки – незаменимый источник знания и зародыши важных инноваций. Даже от родных, которые строили СССР и воевали, в 1960–1970-е нам было трудно получить внятное объяснение логики ошибочного решения или причины провала в предвидении – старикам как будто когда-то давно было запрещено разглашать эту сторону истории. У стариков тогда было «неявное знание», и они быстро устраняли поломки и находили лучшие решения. Но старики ушли, а мы остались без знания.
В 1950–60-е вышли на арену «шестидесятники», цвет нашего обществоведения. А за ними постепенно пошла и верхушка КПСС и зашла в тупик. Это я говорю о той части верхушки, которая пыталась сохранить и спасти СССР. Но эта властная верхушка до конца верила, что советский человек тоже имеет какие-то изначальные ценности, идеалы и веру, что он никогда не даст сломать эту систему.
Обществоведы-«шестидесятники» оказывали большое воздействие на интеллигенцию – через образование, СМИ и систему идеологической учебы. Через эти каналы большая часть интеллигенции сдвинулась к «недоброжелательному инакомыслию», а через личное общение с интеллигенцией эти настроения усвоили широкие массы трудящихся. При этом ни интеллигенция, ни другие общности и не думали разрушать СССР. Хотели как лучше! Наслаждались морализаторством, а меру и расчеты отбросили. И что получилось? Что ближе к концу, уже к 1980-м годам, закрывали глаза на реальность.
В любом обществе есть разрывы. Например, преступный мир, диссиденты, которые отвергают основные нормы и ведут полуподпольное существование. В стабильный период такие общности стараются не создавать открытых конфликтов и не бросают вызовов обществу и государству.
В момент смерти Сталина это прочувствовали даже школьники 7-го класса. Учителя приходили заплаканные, и мы понимали – это вовсе не из-за культа личности. Все покатилось по другой дороге, и тревогу вызывала неопределенность. А уже в 8-м классе произошел необъяснимый раскол – выделилась группа «стиляг», и всем пришлось об этом думать. Возникла консолидированная общность, которая отщепилась от нашей массы. Это был тревожный сигнал, трещина в нашем «теплом обществе лицом к лицу» (так западные социологи называли наше общество).
Во время инкубационного периода 1955–1985 гг. произошла дезинтеграция советского общества, и появились уже крупные и влиятельные общности, которые вызрели и произвели перестройку. «Антисоветский марксизм» в среде шестидесятников и гуманитариев сыграл свою роль в 1970–1980-е.
Фундаментальным провалом политической системы СССР было то, что обществоведение, взявшее за методологическую основу исторический материализм, развивалось в парадигме натурфилософии, а не как познание, автономное от нравственных ценностей. Обществоведение выполняло идеологические и ритуальные функции, а практики следовали здравому смыслу и опыту, т.е. неявному знанию. После войны поколение практиков сошло со сцены, и следующее поколение было воспитано «идеологами». Самым сплоченным и авторитетным сообществом этих «идеологов» были те, кто с энтузиазмом принял харизматическую инновацию Хрущева, его «оттепель».
В обзоре послевоенной истории обществоведения сказано: «Социологи-шестидесятники относились к своим работам как своего рода инструкциям, которыми власть должна воспользоваться, чтобы улучшить положение дел… Окончание «оттепели» в мемуарах маркируется как крушение надежд… Начало «застоя» в воспоминаниях, как правило, соотносится с изменением формата взаимодействия социологов и власти: теперь это не сотрудничество, а подрывная деятельность… Социологи, преодолевшие искушение сотрудничеством с обманувшей их надежды властью, теперь рассматривают социологическое исследование как «сопротивление системе, но с помощью научного знания» [Димке Д.В. Классики без классики: социальные и культурные истоки стиля советской социологии // СОЦИС, 2012, №6]».
В 1994 г. В.А. Ядов и Р. Гратхофф пишут: «Уникальность советской социологии заключается, прежде всего, в том, что, будучи включена в процесс воспроизводства базовых идеологических и политических ценностей советского общества, она стала важным фактором его реформирования и, в конечном счете, революционного преобразования».
Очевидно, что влиятельная часть гуманитарной интеллигенции, близкая к власти и имевшая поддержку Запада, заняла позицию конфронтации с большинством советского общества. Этот конфликт в 1970-е г. перерос во внутреннюю холодную войну (информационно-психологическую и готовящуюся экономическую). Большинство, в состоянии без проекта, без организации и под интенсивным идеологическим давлением, потерпело поражение.
Сейчас уже кажется странным, что многие не могут признать тот факт, что из бывшего советского народа действительно отщепились довольно большие группы, разорвавшие с большинством узы солидарности. Но в 1970-х г. уже нельзя было не видеть, что возникли сообщества, явно ненавидевшие СССР, – и туда тянется много наших товарищей и друзей, которые не были потомками дворян или буржуев, даже наоборот, были среди них и дети большевиков.
Разве классовым врагом был Горбачев или трижды Герой Социалистического Труда академик Сахаров? Но мы не догадались подумать об изменениях в обществе, которые быстро позволили людям разбрестись по неведомым дорожкам. Мы не смогли тогда и выговорить, что не классовые враги, а нормальные советские люди поддержат активное меньшинство в подрыве основ СССР. У нас для этого не было слов и доводов. Да и сейчас трудно подобрать верные слова. Это не вина наших людей, это наша национальная беда. Мы все были не на высоте – уповали на солидарность и не поняли, как изменялось общество.
Я говорю об одном ударе по СССР, но считаю его очень тяжелым. Это слабость общественной науки России, которая возникла из литературы ХIХ века. Сказано, что наша революция и СССР опирались на науку становления (т.е. создания то, чего еще нет), хотя это было неявное знание. Это знание сложилось у крестьян и землепроходцев с их общинным коммунизмом – и у Ленина с его молодыми последователями. Он соединил крестьянский коммунизм с неклассической наукой. Бертран Рассел написал: «Можно полагать, что наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось завершить огромную работу синтеза, одному – в области мысли, другому – в действии. … Государственные деятели масштаба Ленина появляются в мире не больше чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут до того, чтобы видеть равного ему».
Но после 1950-х старики сошли со сцены, и «явное» обществоведение стало просто дымовой завесой реальности. Я бы сказал, что отсутствие научного обществоведения в сложном обществе опаснее утраты естествознания. Потому что там-то еще можно где-то найти или купить необходимые разработки, но не в обществоведении.
Вот вехи, которые меня потрясли. Первый – это 1954 г., я в восьмом или девятом классе. Внезапно возникли «стиляги». У нас в классе было шесть таких парней. Это дети из «генеральского» дома. Впервые какая-то группа отвергала сам тип советского жизнеустройства и мышления. И вот мне звонит отец одного из таких парней и говорит: «Сережа, ты комсорг, надо поговорить. Приходи ко мне на службу». Я пошел. Оказалось, он парторг высшего ранга – огромный кабинет, знамя. Сидит умный сильный человек, орденские планки. И говорит: «Скажи, что происходит? Что с моим парнем? Ведь мы его воспитывали, как и всех». Спрашивает: «Ну что, что, объясни!» – и заплакал. Зарыдал.
Я перепугался, успокаиваю. Он политработник, прошел войну, спрашивает меня: «Что происходит, объясни». Пошел и думаю: а где же наша наука? Затоптали стиляг, но не изучили этого явления. И объяснили в прессе неверно.
Второй случай в 1956 г., осень, я на первом курсе МГУ. Было это после ХХ съезда. Нам надо было готовиться к агитпоходу по Калининской области, по лесам, по деревням. Электричества там еще не было, вот мы и ходили, так было у нас на факультете. Мы приходим в клуб или в школу, соберется вся деревня, концерт, рассказы. Мы думали, что мы скажем в деревне о XX съезде, ведь нас спросят: «Что происходит?»
Мне сказали: «Иди в партком МГУ, пусть дадут нам инструкции, объяснят». Я позвонил, пошел. Там ждал меня член парткома, профессор с философского факультета. Спрашиваю: «Что людям сказать, как вы вот этот сдвиг или слом трактуете? Как объяснять людям». И он прямо так развел руками. «Ничего не могу, – говорит, – сказать. Никому ничего не могу посоветовать. Вы поговорите по-человечески с людьми».
И много было таких вопросов. В 1960 г. я делал диплом в Академии наук, и там среди «шестидесятников» на три-четыре года старше меня – идеи перестройки в воздухе витали, но в сыром виде. Почти каждый день обсуждали эти идеи. Прекрасная лаборатория, все друзья, любили химию, но коллектив дал трещину. Я и товарищи пытались объяснить, что это утопии, иллюзии. Но у нас не было ни языка, ни теории, – то, чему нас учили, никакой связи с реальностью не имело.
И я уехал на Кубу посмотреть революцию, в других условиях. Я увидел, словно в колбе, проблемы революции и варианты их решения. Тогда туда, на Кубу, слетались философы, историки и аналитики из Европы, США, Латинской Америки и СЭВа. Я там сидел с ними, слушал, потом говорили с многими кубинцами. Это для меня было как практикум анализа сложного общества в чрезвычайной ситуации. Тогда я пришел к выводу, что и у нас в это время сложилась ситуация распада единства общества.
Вернулся в Москву, ушел из химии в науковедение, попал в круг философов, экономистов, социологов и др. Я вырос в лаборатории, принял ее нормы, и меня потрясло мышление гуманитариев. Они хорошо меня приняли, с интересом читали то, что я писал, – но будто бы как инопланетянина. Набор фактов, логика и выводы у них были несовместимы с моими. Как сказал бы один чужой философ, у них было «мышление страны Тлён». Это страшная антиутопия – когда люди отвергают реальность в угоду игре.
А дальше наша колея все больше и больше сдвигалась к конвергенции с США. Во время перестройки мы стали по крупицам собирать знание, а параллельно идеологии перестройки стали со злорадством вываливать на головы советских граждан мешки мусора «разоблачений», в котором зерна истины были завернуты несколькими слоями лжи. И получилось так, что большинство населения отшатнулось от изучения аварий и катастроф советской машины.
Вспомним: в 1989 г. рабочие в социологических опросах отрицательно относились к смене общественного строя и перехода к капитализму. Безработица отвергалась рабочими как нечто абсурдное, им и не задавали таких вопросов. А вот опросы в апреле-мае 1991 г. на трех больших заводах: 29% рабочих пожелали идти «по пути развитых капиталистических стран Запада». За государственную и кооперативную собственность на средства производства – 3% рабочих. Теперь 54% рабочих согласились, что «небольшая» безработица необходима, и только треть заявили, что они категорически против безработицы в СССР, т.к. она вредна и бесчеловечна.
Вывод: заветы поколений, которые совершили революцию, строили СССР и воевали, – стали преданием, которое уже не действует как система норм для принятия актуальных решений. Эти заветы были запечатлены в мироощущении 3–4 поколений, которые пережили беды и победы первой половины жизненного цикла СССР и обладали общим знанием первого этапа. При таком состоянии антисоветский проект был реализован очень легко – и 18 млн членов КПСС не чувствовали надвигающей катастрофы и не желали верить, что все так произойдет.
Большинство приняло ликвидацию СССР как тяжелую утрату, 75% определили приватизацию промышленности как грабительскую, то есть, произошло осознание приватизации как зла. Бывшие члены КПСС после запрета этой партии в массе своей не стали антикоммунистами и были глубоко оскорблены действиями власти и верхушки партийной номенклатуры. Оскорблено было в массе своей все население – издевательством с референдумами и провокациями, воровством и безумным гламуром меньшинства, непрерывным враньем и глумлением телевидения и пр.
Но оскорбление само по себе не изменяет состояния. Требуется трезвое знание о реальности – в движении. Здесь мы не можем много сказать. Но вот незаметный, но очень важный фактор. Это был неизбежный сдвиг, вызванный новым этапом развития СССР. Более того, он совместился во времени с другими принципиальными изменениями. Это смена типа солидарности в народе и общества. Она происходила во всей деятельности общества.
Мы говорили, что структуры общества после 1960 г. преобразились. Связи механической солидарности большинства не распались, но ослабли, многих стала тяготить «диктатура над потребностями» и само требование «единства». Тогда мало кто видел за этим симптом назревающего глубокого кризиса. В СССР к такому кризису советского общества не были готовы ни государство, ни наука. Требовалось плавное формирование органической солидарности с гибридизацией или сосуществованием с механической солидарностью, не допуская разрыва и вакуума. Должны были все группы и сообщества товарищески соединиться, как «организм». К несчастью, общественные и гуманитарные науки СССР с этой задачей не справились, да с ней и сегодня эти науки не справляются в России.
Взрывное возникновение множества групп с разными профессиями и ценностями создало для политической системы ситуацию реальной невозможности пересобрать новое население в общество и нацию – старая партийно-государственная машина не могла ни понять, ни предвидеть, ни выработать новые технологии. А молодое образованное поколение номенклатуры было уже могильщиком СССР (кто-то активно, большинство пассивно).
Дело было не в количестве, а в том, что любая общность в момент становления обладает особыми качествами (активностью, творчеством, бунтарством и пр.). В конце ХIХ века в России интеллигенции было мало, но она стала «дрожжами» всей России. В СССР молодая послевоенная городская интеллигенция была иной общностью, нежели старая российская и первая советская интеллигенция. Война оказалась разрывом непрерывности. Это и произошло в СССР: и в социальных группах, и в культурных, и в этнических.
Социолог культуры Л.Г. Ионин пишет в 1995 г.: «Гибель советской моностилистической культуры привела к распаду формировавшегося десятилетиями образа мира, что не могло не повлечь за собой массовую дезориентацию, утрату идентификаций на индивидуальном и групповом уровне, а также на уровне общества в целом… Наименее страдают в этой ситуации либо индивиды с низким уровнем притязаний, либо авантюристы, не обладающие устойчивой долговременной мотивацией… Авантюрист как социальный тип – фигура, характерная и для России настоящего времени» [Ионин Л.Г. Идентификация и инсценировка (к теории социокультурных изменений) // СОЦИС, 1995, №4].
Теперь, чтобы вновь войти в разумную колею, из которой выбивались полвека шаг за шагом, требуется рассмотреть и обдумать логику наших решений и наших ошибок. Нам надо учиться на прошлом и нынешнем, на провалах и победах, на Западе и Востоке.
Мы говорили о доминирующих общностях, которые подавляли интересы и ценности «молчаливых» общностей, независимо от величины массы. Но структура общества и народы (нации) изменяются быстрее, чем думает население и власть. Незаметно развивается и вырастает небольшая группа и становится «дрожжами» для недовольных. Чаще всего возникают сообщества диссидентов во время резкого изменения образа жизни, смены направления политики, появления на общественной сцене молодого поколения с новой картиной мира с разрывом памяти и мировоззрения старших поколений и т.д.
Надо также сказать, что кроме согласия и признания легитимности общественного строя большинством населения, должны были действовать активные группы – это авангард, а за ним актив. Это лидеры, которые работают на «переднем крае». Они не назначаются администрациями, не избираются на съездах – их «выдвигают», не сговариваясь, и они, даже не осознавая, создают сообщество. Конструирование таких групп и сообществ – это целая мультидисциплинарная область.
В СССР первого этапа работали великие конструкторы партий и армий. Известно, что вперед вышли партия большевиков и Красная армия, об этом много написано. Но стоит упомянуть такие группы, которых тогда называли Красные сотни. Это молодежь, прошедшая Первую мировую и Гражданскую войны, и они были в основном командирами среднего и низшего звена, из малых городов и деревень Центральной России. По сути это была единая сплоченная общность, авангард нового поколения, так что Сталин даже художественно представил эту общность как «орден меченосцев». Наши старики хорошо знали качества этих людей, это была общность особого антропологического типа – «так закалялась сталь».
Наша проблема в том, что вот уже 30 лет мы не сдвинулись к предвидению будущего. Движение вперед – условие возрождения страны. Образ прошлого настолько заполнил нашу память и мышление, что мы как будто сидим на родном пепелище и около могил дорогих людей, и не можем встать и пойти. Травма краха не заживает и даже передается части молодежи. Но уже надо встать.
Наша история – наше достояние и сокровище. Но вовсе не просто активизировать и запустить этот ресурс в работу на благо подавляющего большинства, стране и братским народам. Подходы к этому наследию надо изучать, и это время пришло. В мировой науке и культуре, и в опыте и творчестве самого советского народа накоплен большой массив знания, надо его осваивать.
И вспомним слова Гёте: «Заслужите приобретенное от предков, чтобы истинно владеть им».
Сергей Кара-Мурза
Источник – Советская Россия