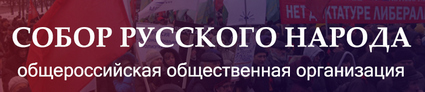200 лет назад родился Аполлон Григорьев.
Аполлон Александрович Григорьев (16(28) июля 1822 — 25 сентября (7 октября) 1864) и его судьба, прижизненная и посмертная, — наглядная иллюстрация тезиса о том, что “в России талантами дороги мостят”. С тем обязательным уточнением, что чаще всего таланты наши занимаются этим важным делом не по какому-то внешнему принуждению, а как будто сами по себе.
Аполлону Григорьеву как явлению в этом отношении, можно сказать, повезло. Не столько при жизни, сколько после смерти. Его талант явился мостом между двумя важнейшими эпохами классической русской литературы, её “золотого века”: “пушкинской” (отмеченной также творчеством И.А. Крылова, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя etc.) и эпохой “великого русского романа” Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова (для полноты картины специально добавлю — в единстве с поэзией Н.А. Некрасова и Ф.И. Тютчева, драматургией А.Н. Островского, прозой Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, многогранным творчеством А.К. Толстого; этот список авторов при желании можно существенно расширить). И всякий из тех, кто обращал взгляд из своего времени на прошлое нашей словесности, не мог пройти мимо и “не заметить” ни этот мост между эпохами, ни необычным образом “вписанную” в него фигуру А.А. Григорьева, которая при ближайшем рассмотрении выполняет вовсе не декоративную, а важнейшую, несущую функцию.
“Последний романтик” и “первый символист”, чья личность оказала немалое влияние на Ф.М. Достоевского, на А.Н. Островского (которого Аполлон Григорьев буквально боготворил в своей литературно-театральной критике как “глашатая правды новой”) и в целом на “почвенническое”, славянофильское и патриотическое направления в русской литературе и культуре, а в итоге — и на них в целом; переводчик, сделавший достоянием русскоязычного читателя ряд шедевров мировой литературы: от Софокла до Шекспира, Мольера и Байрона; один из первых созидателей, наряду с В.Г. Белинским, “храма русской литературы” — Аполлон Григорьев за сорок два года своей бурной, разгульной и противоречивой жизни, полной взлётов и падений, успел сделать одновременно и очень мало, и чрезвычайно много. Сказанные им несколько слов: “Пушкин — наше всё!” (в оригинале “А Пушкин — наше всё”) — на пресловутых весах истории оказались “томов премногих тяжелей” и могут считаться своеобразным “Символом веры” для всей нашей культуры.
Потому так и получилось, что полузабытый при жизни литератор оказался так памятен после смерти, и чем дальше, тем отчётливее становится видно, что без него дальнейшее развитие отечественной литературы могло пойти даже не по другому пути, а в несколько ином направлении. На этом фоне некогда существенные подробности жизни Аполлона Григорьева (от запутанных личных обстоятельств до сугубого пьянства и сидений в долговой тюрьме) отступают на второй и даже третий план, хотя сам архетип “пьяный проспится, дурак никогда” укрепился в образе жизни и смерти множества наших талантов и гениев, в кавычках и без, писательских и не только, — во многом благодаря “молодой редакции” журнала “Москвитянин”, душой которой с 1850 года стал и в течение нескольких лет “литературного безвременья” являлся как раз Аполлон Григорьев.
Судите сами. К тому времени, в 1848 году, неполных 37 лет от роду, скончался от туберкулёза В.Г. Белинский. Гоголь переживал душевный и творческий кризис, Достоевский был отправлен на сибирскую каторгу, Некрасов только начинал “раскручивать” “Современник”, А.Н. Островский, И.С. Тургенев ещё не набрали “полный голос”, а Л.Н. Толстой только готовился к тому, чтобы вступить на литературное поприще.
В среде отечественных революционных демократов последний период правления Николая I, 1848–1855 годы, от подавления “весны народов” на европейском континенте (“жандарм Европы” же!) до Крымской войны, вообще было принято называть “мрачным семилетием”, временем сплошного регресса и реакции (такая оценка впоследствии была закреплена при советской власти). Но как раз в это время, по словам Аполлона Григорьева, “все интересы жизни, то есть интересы высшие, сосредоточились и могли выражаться только в искусстве и в литературе. Литература была всё и одно в области духа. Литературные симпатии были вместе и общественными, и нравственными симпатиями, равно как и антипатиями”.
Эта его фраза — наглядный пример диалектического мышления, абсолютно несвойственного подавляющему большинству тогдашнего образованного класса Российской империи. Но в данном случае она — проявление не просто народной мудрости (“нет худа без добра”, “не было бы счастья, да несчастье помогло” и т.д.), которую Аполлон Григорьев впитал со своего не вполне “законнорожденного” детства, но и результат многолетнего изучения новейших достижений мировой мысли, прежде всего — немецкой классической философии. В результате такой самоогранки из природного алмаза и получился почти бриллиант. Почти — потому что на завершение процесса не хватило ни времени, ни сил, ни — что, может быть, самое главное — общественной поддержки. Тем более в условиях, когда “переворот, совершившийся в художественной деятельности Гоголя, разделил всех мыслящих людей на две литературные (а значит, в тогдашних условиях — и общественно-политические. — Г.С.) партии”.
Разумеется, здесь Григорьев ведёт речь про гоголевскую книгу “Выбранные места из переписки с друзьями” (1847), которая им была воспринята как тот самый сказочный Вещий камень на распутье с надписью: “Направо пойдёшь — коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь — себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь — и себя и коня потеряешь”. Попытка Гоголя поддержать идеологию “православия, самодержавия, народности” никого не убедила и не примирила. Наоборот. Своё недовольство поворотом Гоголя от критики “царства мёртвых душ” к смирению выразила вся считавшаяся тогда передовой часть российского общества, прежде всего — “неистовый Виссарион” В.Г. Белинский, уже переживший обратный поворот: от “примирения с действительностью” к призывам изменить её в духе “свободы, равенства и братства”, а также прогресса и социальной справедливости. Напомним, Гоголь на тот момент был не только признанным литературным кумиром России — он был ещё и профессиональным историком, профессором Петербургского университета, а также человеком, к тому времени уже более десяти лет жившим за границей и хорошо знавшим европейские порядки, где уже полным ходом дело шло к экономической и политической революции.
Но дело было не в Гоголе, а в общественно-политической ситуации, в той “силе вещей”, которая не предполагала прямого пути. Часть российского общества, особенно образованного (прозападно образованного) пошла влево, готовая потерять, изменить себя, но спасти “коня прогресса”. В этот момент и вся русская литература вполне могла двинуться в ином направлении, куда более близком к европейско-западному, следом за А.И. Герценом с Н.И. Огарёвым — и чуть было не пошла, кстати. Как раз в том, что этого не случилось, заслуга “пьяницы и мота” Аполлона Григорьева несомненна и велика. “На реформы Петра Россия ответила через сто лет явлением Пушкина”, — справедливо заметил тот же А.И. Герцен. Аполлон Григорьев, следуя Белинскому и предвосхищая Достоевского, уточнил: “Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества, — но мира русского, но человечества русского”. Не правда ли, даже сегодня, через полтора века с момента написания этой фразы, она звучит не только современно, но даже с некоторым “запасом”?
Свою роль сыграл и тот момент, что в освоении немецкой классической философии Аполлон Григорьев, в отличие от большинства современников и соотечественников, принял сторону не Гегеля, а Шеллинга, который с его “интеллектуальной интуицией” уже тогда воспринимался как “реакционер”, “мистик” и “противник прогресса”. Но для Григорьева идеи Шеллинга оказались и ближе, и “роднее”, на их основе строилась его “органическая критика”, которая впоследствии сама стала основой не просто “почвенничества” и “славянофильства”, но и цивилизационной концепции истории (один из основоположников которой Н.Я. Данилевский принадлежал тому же кругу, что и Ф.М. Достоевский, и так же испытывал влияние А.А. Григорьева).
Там, где Гегель видел и обосновывал диалектическое развитие Абсолютного Духа, Шеллинг видел тайну бытия и тайну жизни, постигаемую не только логически, посредством философии, но и через искусство, посредством образов, посредством интуиции. Zeitgeist, “дух времени”, неизбежно взаимодействует с Ortgeist, “духом места”, а это взаимодействие всегда и везде оформляется ещё и “духом меры”. Можно даже сказать, что “мера — это вера”. И личная, и общественная.
Вот с мерой отношения у Аполлона Григорьева как раз не сложились: меры своей он явно не знал, да и знать особо не желал. Или, не исключено, намеренно (что не значит — сознательно) испытывал границы возможного и допустимого. Последствия таких метаний выражены в его лучших, переживших испытание временем, стихах, которые сразу стали песнями и, что называется, “ушли в народ”:
О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!..
Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли…
С детства памятный напев,
Старый друг мой — ты ли?..
По свидетельствам современников, Аполлон Григорьев был музыкален, хорошо играл на фортепиано, однако отдавал предпочтение гитаре, и особенно — в цыганском исполнении. Его даже называли “Аполлон с душой цыганской”, и это действительно было частью его русской души: “всемирно отзывчивой”, по определению Ф.М. Достоевского. Той самой человеческой души, о которой толкует его герой Митя Карамазов: “Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил”, — и мнением народным слова эти давно и прочно приложены к русскому человеку, срослись с ним. И на гамлетовский вопрос “Быть или не быть?” всегда есть русский ответ “Была не была!” Как известно, всё познаётся в сравнении, а по сравнению со всеми соседствующими народами русский человек действительно “широк”, а потому и наша страна — “широка” по сравнению с соседствующими странами. Даже вне самой пространственной меры. Потому и хотят её сузить — как говорится, “не мытьём так катаньем”. Тем более из-за подобной “широты”, из-за подобной протяжённости, как будто избыточной, в России у “духа времени” с “духом места” совершенно иные отношения и меры, чем где бы то ни было ещё.
Аполлон Григорьев эту особость не просто чувствовал, не просто воспринимал её как высшую ценность — он жил ею и умер с нею. Он тянул, в общем, в противоположную “пошедшим налево” сторону — направо, туда, где коня прогресса потеряешь, но сам жив будешь и найдёшь себе другого коня (чудесного Коня-Горбунка, например). В результате “слишком налево” ни русская литература, ни дальнейшая русская история не ушли.
В другой архетипической русской сказке репку смогли выдернуть только все вместе, и без помощи маленькой мышки дело не сделалось. Может быть, вклад Аполлона Григорьева был и меньше — сравнимым даже не с мышкой, а каким-нибудь муравьём, но мураш этот тянул не просто изо всех своих сил, но и с полным пониманием того, что, куда и зачем он тянет. Не боясь пойти против мнения большинства здесь и сейчас. Как он сам сказал в других своих, не настолько памятных, как “Цыганская венгерка” и “Подруга семиструнная”, стихах:
И где же вам любить, и где же вам страдать
Страданием любви распятого за братий?
И где же вам чело бестрепетно подъять
Пред взмахом топора общественных понятий?
Сам себя Григорьев называл “веянием”, и это веяние вполне ощутимо чувствуется даже сегодня, когда время его жизни, включая посмертное житие-бытие, начало отсчитывать уже третье столетие…
Георгий Судовцев
Источник: Завтра