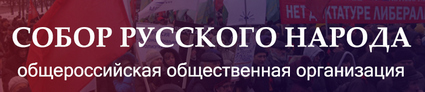Пиррова победа либерализма: прежнее кончилось, а ожидаемое не началось.
Экономика как судьба
Последние двести лет прошли под знаком экономического мышления. Когда отец-основатель экономической мысли Адам Смит (1723–1790) создавал свой классический труд «Исследование о природе и причинах богатства народов», он больше думал о применении философских и этических принципов своего философского кумира, Джона Локка (1632–1704), и старшего друга, философа Дэвида Юма (1711–1776), к области хозяйства.
Внимание к сфере экономики было второстепенным по значимости и служило иллюстрацией к общему принципу свободы и построенным на нем философской, этической и правовой системам. Основатель экономики сам был не экономистом, но философом. Постепенно его идеи в области хозяйства стали абсолютизироваться и легли в основу самостоятельной науки — политической экономии, или просто «экономики», которая два столетия претендовала на то, чтобы освободиться от философского и этического содержания и стать «точной наукой», заменив собой философию и идеологию.
Марксизм
На другом полюсе в сфере критической мысли, в учении Маркса (1818–1883), также очевидны сугубо философские корни: свой метод Маркс почерпнул в философии Гегеля, который уделял проблемам хозяйства довольно мало места, сосредоточив основное внимание на Идее, к диалектическим трансформациям и метаморфозам которой сводил все содержание космогонического и исторического процессов. Маркс применил диалектический метод к экономике, обосновав тем самым примат экономического начала над всеми остальными в контексте анти-либеральной критики. Так, с двух сторон — либеральной и коммунистической — формировалось представление о центральном значении экономики в современной истории, о том, что «экономика — это судьба». Это высказывание Ратенау стало аксиомой ХХ века, когда экономика не только стала движущей силой основных политических процессов, но спор двух альтернативных экономических моделей — капитализма и социализма — предопределил глобальную архитектуру мира во второй половине столетия. Окончание холодной войны также было проинтерпретировано в экономических терминах — как победа капитализма над социализмом, то есть закрепление превосходства рынка над планом. Рынок стал глобальным, мировым не только как хозяйственная инфраструктура, но как глобальная идеология. Деньги стали мерой всех вещей. В социологии это получило название «рыночного общества». Речь шла не просто об обществе, чье хозяйство основывалось на рыночном принципе, но об обществе, воспроизводящем структуру рынка (с его обменом, торговлей, ценообразованием, эгоизмом, поиском выгоды, спекуляцией, распределением труда и т. д.) на всех уровнях. Экономика, таким образом, подчинила себе политику, общество, идеологию, историю и все остальное.
Парадокс «конца истории»
В конце ХХ века Фрэнсис Фукуяма сформулировал свой знаменитый тезис о «конце истории». Смысл его заключался в констатации исчерпанности идеологического и политического содержания исторического процесса и перехода к решению чисто логистических задач в сфере экономики. Мировые проблемы, по мысли Фукуямы, отныне должны были сводиться к регулированию становления глобального мирового рынка, а все исторические трения между народами, нациями, политическими системами и идеологиями — безвозвратно отойти в прошлое. Многие подвергли идеи Фукуямы критике, утверждая, что он забежал вперед и что еще не все исторические противоречия и проблемы сняты в сфере политики, межнациональных и межконфессиональных отношений. Кроме того, не так уж гладко дела обстоят и с современным обществом, противоречия внутри которого видоизменились, но отнюдь не снялись окончательно. Характерно, что вера самого автора данного тезиса продержалась недолго, и с середины 1990-х он стал его корректировать, пока полностью не отказался от него в 2000-е.
Причину пересмотра своей позиции Фукуяма объясняет эмпирическими наблюдениями — вопреки его прогностическому анализу конец холодной войны не привел автоматически к свертыванию исторического процесса и переходу к глобальному рынку. Нации и цивилизации сохранили конфликтный потенциал своих ценностных систем и практических интересов, и окончательного триумфа экономики на практике не произошло. Пока не произошло. Фукуяма считает, что надо переждать еще один цикл, в ходе которого будут урегулированы ряд основных проблем, осуществлена окончательная демократизация, более глубокое проникновение западных либеральных ценностей в глубь всех обществ планеты, и лишь после этого история завершится окончательно. Признавая, что он ошибся, он объясняет это тем, что «поспешил». Здесь с Фукуямой вполне можно не согласиться. На этот раз принципиально. С одной стороны, он прав в том, что вектор в направлении абсолютизации экономики, объем аксиомы «экономика — это судьба» действительно учитывает основное содержание истории Нового времени и является наиболее точным ее выражением. Перемещение экономики в центр внимания обнажает основной нерв Просвещения, начавшегося с освобождения индивидуума и завершившегося отождествлением этой свободы со свободой частного предпринимательства и триумфом «homo economicus» (по выражению М. Вебера).
Все это так. Возражение вызывает другое: Фукуяма, будучи прав в осмыслении логики Новейшей истории и ее неизбежного завершения в стихии глобального рынка, посчитал, что эмпирические опровержения этого в Realpolitik 1990-х и начала 2000-х годов — межнациональные конфликты, всплеск фундаментализма и терроризма, американские войны на Ближнем Востоке и в Афганистане — следует рассматривать как «промедление», «откладывание» «конца истории».
Нет, «конец истории», какой мы ее знали в Новое время, действительно наступил. И стал философским фактом. Заметьте: наступил, а не отложился. Но в чистом виде этот конец и триумф глобальной экономики продлился только одно мгновение, совпадающее хронологически с концом 80-х — началом 90-х годов ХХ века. А затем человечество очутилось после этого «конца» по ту сторону истории, в пост-истории (Ж. Бодрийяр), но все дело в том, что пост-история, или пребывание в «конце истории», оказалась не совсем такими, какими они представлялись Фукуяме. Сегодня мы живем после «конца истории». Как это бытие после конца, внутри наступившего конца, затрагивает экономику?
Дериватив человека
Торжество принципа «экономики как судьбы» и планетарное учреждение «homo economicus» как нормативного типа поставило человечество перед интересной проблемой. С одной стороны, история была эвакуирована, дискредитирована как нечто «спонтанное» и «динамическое», чреватое непредсказуемостью, появлением рудиментов и остатков (residui) прежних эпох, но в то же время немедленно стало понятно, что историческое содержание было единственной матрицей, порождающей цивилизационные и культурные смыслы. Без них же «экономический проект» жизни как «глобального рынка» утрачивал всякий смысл. Пока это было целью, это могло мобилизовывать и вдохновлять (это и было мотором либеральной динамики); как только это стало данностью, энергия иссякла. Двигаясь к абсолютизации «экономического», человек постепенно растерял свою человечность, человеческие смыслы. Когда этот процесс достиг кульминации и рынок стал основным содержанием мировой истории, это противоречие вскрылось. Человек — с его ограничениями, атавизмами, предрассудками, мифами, с его «жизненным миром» — стал восприниматься как преграда на пути дальнейшей рационализации рынка. Рынок должен был расти по своей логике, все более и более набирая обороты в повышении своей виртуальности: все должно было расти — рынки ценных бумаг на будущие сделки, хедж-фонды, ценные бумаги на ценные бумаги и хеджирование хеджинговых операций и так до бесконечности.
Экономический человек, чье бытие повергалось тотальному «рыночному дисконту», по выражению теоретика «технического анализа» рынков Джона Мерфи , становился переменной от спекулятивных движений, движущихся в соответствии с трендами цен. Он утрачивал свой «фундаментал», становясь «придатком» все более автономных технических и финансовых процессов. То, что составляло сущность человеческого — культура — по мнению теоретиков постиндустриального общества, переосмыслялось как «препятствие на пути технического прогресса», поскольку «содержание культуры составляла совокупность иррациональных моментов, связанных с пережитками предыдущих фаз развития цивилизации».
К этому сводились наиболее откровенные выводы либералов-технократов — таких, как Д. Белл. Лишая человека культуры и истории, апологеты рынка и технократии подходили к той черте, за которой «homo economicus» должен был совершить фундаментальный прыжок в новое качество. Должна была произойти настоящая антропологическая революция: в мире чистой экономики требовались совершенно новые видовые качества, связанные с максимальной рационализацией основных функций, с быстротой брокерских реакций, с высокими скоростями принятия экономических решений, с отточенными и не обремененными ничем иным рыночными и спекулятивными инстинктами. Человек должен был развиваться так же стремительно, как возрастала степень порядка деривативов в мировых финансовых институтах — на биржах и торговых площадках. В конечном счете ускоряющийся рост финансового рынка требовал выпуска «дериватива человека», который соответствовал бы высокому и постоянно ускоряющемуся ритму финансового роста и технического развития.
Кризис и антропологический сбой
На этом рубеже перехода от человека к «постчеловеку», к его технократическому деривативу, и произошла серия кризисов начала 2000-х годов. Первая волна, 2000 года, смягченная переносом центра внимания мировых рынков на недвижимость и энергоресурсы под прикрытием паники, связанной с терактами 11 сентября, и вторая волна, 2008 года, когда так просто отложить проблему не удалось.
Обе эти волны были связаны с антропологическим фактором. Социальная антропология держателей акций оказалась не в состоянии угнаться за ритмом роста финансовых пирамид. Рост цен на акции, который должен был бы быть бесконечным, если бы условия «конца истории» полностью соблюдались, натолкнулся на «атавизм» владельцев акций, не способных рационально подобрать нужную стратегию, чтобы справиться с развивающимися эвристическими закономерностями «новой экономики».
Люди повели себя «недоверчиво», «по старинке», отказав в доверии высшей математике виртуальных рыночных процессов. В первом случае (2001 год) упали доверие к индексу высокотехнологичного сектора и ожидания, связанные с геометрическим ростом в этой сфере, во втором случае рухнула американская ипотека, потянув за собой весь финансовый и кредитный сектор в мировом масштабе и ополовинив объемы хедж-фондов, что привело, кроме всего прочего, к замедлению роста экономики, падению цен на недвижимость и энергоресурсы.
Две половины формулы «homo economicus» вошли друг с другом в противоречие, надо было выбирать: либо «homo», либо «economicus». Расхождение между виртуальностью роста финансового сектора и реальностью производства и товарного покрытия (рыночного фундаментала), по сути, представляло собой проблему столкновения с антропологическим барьером. Если бы человек по-настоящему стал экономическим, вся реальность (производство) была бы для него дисконтирована виртуальностью рынка. Но для этого сам человек должен был бы полностью стать виртуальным. Эта виртуализация человека, теоретически произошедшая после глобальной победы либеральной рыночной парадигмы, несколько запоздала. Выведения человека искусственным путем — генная инженерия, клонирование, система виртуальных дублей и голограмм, генетическое моделирование — пока не состоялось, а старый человек, произведенный естественным путем, хранил в своей социокультурной памяти слишком много архаических черт, привязывающих его к реальности (в ее старом, не до конца техническом понимании).
Человек не должен был заметить перехода очень важной черты — к постчеловеку. Это должно было произойти само собой. Но не произошло. С этим и связан настоящий экономический глобальный кризис. Чтобы его не было, его никто не должен был заметить. Чтобы его не заметить, человек должен был быть более управляемым, гибко адаптированным к динамике рыночных трендов, той дисконтности, которая выражается в динамике ценовых трендов по ту сторону всякой верификации (единственной верификацией должна была стать возможность перевода акций в ликвидность, что на фоне постоянного роста котировок было занятием подавляющего меньшинства). Но в какой-то момент «культурность» человека (его страхи, опасения, недоверие, стремление убедиться в грубом наличии вещи) превозмогла его техничность (рациональный расчет постоянно растущей прибыли).
Перед этим моментом человечество должно было быть заменено на постчеловечество, но этот процесс технически запоздал за идеологическим и политическим. Здесь мы имеем дело с явлением «культурного лага», исследованным американским социологом Уильямом Огборном в знаменитой книге «Социальное изменение»: одна сторона социальной системы (в нашем случае — экономика и либеральная идеология) перешла в новое состояние, а другая сторона (в нашем случае — антропология) не успела. Это и есть смысл современного кризиса: нормативно история заменена экономикой, а либерализм и буржуазная демократия победили в мировом масштабе; но на деле эта победа оказалась пирровой: прежнее кончилось, а ожидаемое не началось.
Кризис и горизонты войны
Означает ли такое положение дел возврат к прошлому, откат к предыдущей фазе экономического развития? Снимает ли это с повестки дня «новую экономику» и «конец истории»?
Так мыслят многие экономисты, критически настроенные к «новой экономике» и оспаривающие ее логику как вариант «новой мифологии». На самом деле запаздывание антропологического среза за экономическими, технологическими и идеологическими трансформациями, «культурный лаг», еще не означает поворота цивилизационных тенденций в обратном направлении. Экономика последовательно становилась судьбой человечества в последние 300–400 лет, то есть в период роста и развития капитализма, не для того, чтобы отступить при первом столкновении с возникшими трудностями.
Поэтому в теории эта фундаментальная тенденция не снимается и не обращается вспять. С другой стороны, она не может продолжаться в том же виде, как до кризиса. Как правило, в таких ситуациях все решают мощные мировые войны, которые разряжают кризис, отвлекают внимание на брутальность кровавых событий, а на новом этапе социокультурное поле форматируется по-новому. Учитывая информационную управляемость современных обществ и уровень развития новых типов вооружений, можно допустить, что войны нового поколения, в отличие от старых войн, пройдут по иным сценариям. Нельзя исключить использование бактериологического, вирусологического, этнического и психологического оружия.
Катастрофа, ведущая значительную часть человечества к гибели, может быть неожиданной и «креативной». В любом случае историческая инерция капитализма, набранная за последние столетия, не такова, чтобы ее остановить из-за пусть и серьезных, но технических сбоев. С другой стороны, мало шансов, что стабилизация экономической ситуации произойдет само собой и кризис постепенно урегулируется, возвратив все процессы на свои места. Несоответствия между виртуальностью и реальностью, между техникой и культурой, между экономикой и антропологией, вскрывшиеся в этом кризисе, слишком серьезны, чтобы остаться вообще незамеченными. Нельзя заведомо отрицать возможности появления в ходе его развертывания на земле очагов сознательного сопротивления экономике как судьбе в глобальном масштабе, как продолжение на новом этапе той битвы, которую вел с капитализмом марксизм и в которой в конце ХХ века он потерпел поражение, оставив огромный цивилизационный вакуум.
Но на сей раз речь пойдет не об альтернативной экономике (как в марксизме), но о мобилизации людей против экономического дисконта, в движении освобождения реальности от виртуальности, культуры от техники, истории от рынка. Это не просто возврат, это шаг в будущее, которое альтернативно тому, к которому логически ведет победивший либерализм. И в этой связи нельзя исключить, что в обозримом будущем линия фронта будет пролегать между людьми и постлюдьми, между «реалами» и «виртуалами», между «человеком человеческим» и «человеком экономическим».
Линия напряжения в таком анализе помещается не в идеологической, но в антропологической сфере. Время старых идеологий прошло. Либерализм выиграл битву и с фашизмом, и с коммунизмом и сегодня столкнулся напрямую с человеческим фактором, не идеологизированным, сырым и спонтанным. Фашизм и коммунизм не отрицали экономики, они предлагали другие, отличные от либерализма модели экономики и пытались доказать их эффективность и конкурентоспособность. Они проиграли, и если основывать все на экономических показателях и на соответствующей им политической истории, то у противников либерализма не осталось аргументов — либерализм эффективнее, и если признать, что «экономика — это судьба», то из этого напрямую вытекает: «либерализм — это судьба».
Лимит на экономические альтернативы закончился; любые соревнования в этой области и по имеющимся правилам снова приведут нас к убежденности в эффективности рынка, в превосходстве новой экономики над старой, в заведомой выигрышности постиндустриальных систем по сравнению с индустриальными, не говоря уже о прединдустриальных (что, вообще, очевидно). Но этот путь неминуемо ведет нас к постчеловеку, к необходимости замены человека культурного на постчеловека технического, что рано или поздно станет триумфом роботов, мутантов, клонов и големов.
Альтернатива новой виртуальной экономики, альтернатива либерализму не может лежать в сфере экономики — она должна лежать в сфере человека. Логика эффективности требует отказа от человеческого, расчеловечивания человека, смены его на «рационального монстра», чуждого страхам, предрассудкам, опасениям, недоверию, воспринимающего виртуальность как свою естественную жизненную стихию. В пределе экономика и техника есть царство автономных машин, антропоидов. Поэтому иная судьба требует выдвижения тезиса об ориентации на конец экономики.
Если мы не хотим, чтобы кончился человек, должна кончиться экономика. Многим этот вывод покажется спорным, но мало-помалу его значение будет оценено по достоинству. И если события, связанные с настоящим кризисом, будут развиваться достаточно динамично, и если все же серьезный планетарный конфликт мирового масштаба разразится (в той или иной форме), эта дилемма: либо человек, либо экономика, может стать важнейшим, центральным идеологическим моментом в самом ближайшем будущем. А после первых успешных экспериментов по созданию искусственного человека это станет просто само собой разумеющейся вещью.
Привыкшие за последние столетия мыслить исключительно в экономических терминах, люди могут изумиться: как возможен отказ от экономики, чем ее можно заменить? Ответ не так уж парадоксален: история знала гигантские периоды, в которых экономика играла второстепенную, подчиненную роль, а судьбой были религия, культура, философия, идеология, искусство. Из новейших тенденций ближе всего к тому, что может заменить собой экономику, стоит экология. Сочетание нового и одновременно древнего понимания природы и человека вне экономической парадигмы не несет в себе ничего несбыточного: если мы откажемся видеть в экономике судьбу, это не значит, что она исчезнет. Но она станет второстепенной, она закончится как абсолютная ценность, сохранившись как нечто прикладное, менее значимое, функционально зависящее от иных — не экономических — структур и приоритетов.
Но понятно, что никакой кризис не приведет сам по себе к концу экономики естественным путем. Этот конец зависит от глубинного волевого решения, которое должно созреть в самом человечестве, и чтобы реализовать его, потребуется высшее напряжение сил. Кризис, впрочем, создает для этого благоприятные условия. И даже вероятные потрясения, катастрофы и катаклизмы, напрямую с ним сопряженные, могут стать полезным антуражем, если страдания, ужас, боль и трепет вернут человечеству священное отношение к духовному началу, к религии, этике, природе, к самому человеческому существу в его высших проявлениях.
Александр Дугин
Источник: Катехон