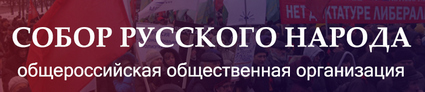В свое время Михаил Шемякин сказал всю правду нашей «Правде».
«Русский Вестник» продолжает публикацию отрывков из новой книги Владимира Большакова «Франция. Встреча с великими», которая готовится к печати в России. В сегодняшнем номере мы предлагаем вниманию читателя интервью Большакова из этой книги с выдающимся русским художником Михаилом Шемякиным.
С Михаилом Шемякиным мы встретились в Париже перед католическим Рождеством в декабре 1990 года. К тому времени всем ранее изгнанным из Советского Союза вернули скопом гражданство. Уже больше никто бы не посмел отказать Шемякину в признании, которое ему даровали на Западе. После многочисленных арестов в СССР его выставок, конфискаций работ и принудительного лечения в психиатрических больницах власти в 1971 году выдворили Шемякина за рубеж. Одно время он жил в Париже, а в1981 году переехал в Нью-Йорк, где получил американское гражданство. Впервые со своей выставкой он вернулся в Советский Союз в 1989 году. Успех был сенсационный.
Мы встретились в небольшом кафе неподалеку от Елисейских Полей. Я никогда раньше Шемякина не видел. Он был одет, как нынешние десантники – в камуфляжной форме и в такой же шапочке, смахивающей на купеческий картуз. Говорили, что он стал носить эту униформу после того, как съездил в Афганистан, где выкупил у талибов наших пленных бойцов и привез их на Родину.
К моменту нашей встречи он уже был мировой знаменитостью. Один перечень его персональных выставок составляет несколько страниц машинописного текста, а каталог только с поименованием его картин напоминает солидную монографию.
Беседа как-то не клеилась поначалу, пока не подошла к нам его жена Сара, хрупкая женщина с огромными глазами и пышной огненно-рыжей шевелюрой. Время от времени Сара вмешивалась в нашу беседу, что-то уточняя, что-то добавляя, но просила ее не цитировать. «Пусть только Миша скажет всю правду вашей “Правде”».
После многолетней травли и разгромных статей в партийной печати, бичевавшей советских художников-авангардистов и неформалов за отход от соцреализма, их настороженность была мне понятна. Ледок таял медленно, но все же таял.
– Мы становимся мудрее, мы говорим об общечеловеческих ценностях и единстве мировой культуры, – приступил я к интервью. – А есть ли, на ваш взгляд, сейчас реальный шанс для единения и нашей отечественной, и русской зарубежной культуры? Почему я спрашиваю об этом? Все мы ждали, что в один прекрасный день придет такое время, когда все станет на свои места, не будет в искусстве и литературе «наших» и «чужих»…
Михаил явно не был готов к столь молниеносному примирению и, наверное, воспринял этот мой вопрос как приглашение вернуться в Советский Союз навсегда. Поэтому ответил жестко:
– Тут, пожалуй, черно-белой гаммой не обойдешься. Ну, во-первых, перед нами никто за прошлое не извинился. Просто вернули гражданство, даже никого не спросив, а есть ли в том у кого-то из нас нужда? А во-вторых, дело тут не в совместимости или ее отсутствии. Границы в ходе развития перестройки уже стерлись. Писатели, ну, например, мой друг Буковский, печатают свои книжки в СССР. Печатается вовсю и Аксенов. Я вот, например, с трудом выбрался со своей московской выставки, потому что меня мои поклонники там чуть не придушили в объятиях, а один любитель автографов так упорно проталкивал через толпу ко мне мой же каталог, что подбил мне им глаз…
А возьмите Нью-Йорк. Я часто встречаю там молодых советских художников, совершенно мне не известных, у которых уже есть контракты с такими галереями, куда и меня не всегда приглашают. Приезжают Гребенщиков, другие певцы, подписывают контракты на свои пластинки. И все нормально. Мог ли мечтать об этом мой друг Володя Высоцкий?
В 1975–1980-е годы Михаил Шемякин записал в своей студии в Париже семь уникальных пластинок В. Высоцкого во время его наездов в Париж по приглашению Марины Влади. Эти записи высочайшего качества были изданы только в 1987 году.
– И все же далеко не все изгнанники возвращаются в Советский Союз? Не хотят или еще боятся, что все вернется на круги своя?
– Мне кажется, не возвращаются по другим причинам. Например, по тем, по которым я не хочу вернуться. Я побывал сейчас на Родине и понял, что это даже не та Россия, из которой меня изгнали 20 лет тому назад. При всей угрюмости и серости той поры в ней все же что-то было. Было ощущение хотя бы сцены и кулис.
– То есть были какие-то временные и пространственные параметры, по которым можно было ориентироваться?
– Да и потом вообще все было четче. Мы знали: вот там – они, а вот тут – мы. И мы верили, что даже если мы не пробьемся, но будем просто держаться группой, будем показывать свои работы у себя на квартире, мы все равно будем делать искусство. И потому мы радовались успеху друг друга, когда устраивали взаимные показы, скажем, перед Новым годом. А сейчас мне показалось, что даже вера в само искусство распалась. Мы, художники, как-то шкурой своей чувствуем, что к чему. Есть духовная аура, которую мгновенно воспринимаешь. Я ощутил совсем не то, что мы оставили. Мне показалось вдруг, что я потерял Россию второй раз, именно тогда, когда попал туда, совсем того не ожидая.
Понимаете, это даже не проблема материальных благ. Мне показалось, что в России сейчас художнику невозможно сосредоточиться. Шума слишком много…
– Политического?
– И политического, и творческого. И не тот шум это. Не шум Маяковского и Бурлюка, не спор, скажем, соцреалистов и футуристов. Это не мысли бушуют, не страсти. Громоздятся амбиции. Оглушает скрежет голосовых связок. И порой кажется, что во всех этих спорах участвуют не живые люди, а маски…
– В этих образах много от ваших картин. Нагромождение лиц… Они как бы громоздятся друг на друга. Маска на маске. Такое ощущение Вы и вынесли из последней поездки в Россию?
– Увы, да.
– Ваши образы близки по духу к графическим работам Гойи. Прежде всего к «Капричос»…
– Попали в точку. Это один из самых близких мне художников. В юности один из моих старших друзей Николай Михайлович Лапицкий, ученик Филонова, показал мне весьма неважно изданный альбом рисунков Гойи. Это и были «Капричос». И вот я провел с этим альбомом всю ночь, а утром приехал к нему и сказал: «Я отдам все, что у меня есть, но продайте мне эту книгу». Я узнал самого себя.
У меня было такое ощущение, что я это уже видел. Я вдруг узнал все его персонажи. Всю мою жизнь Гойя меня поддерживал. Мне он близок еще и тем, что, с одной стороны, создавал чрезвычайно изящные вещи – возьмите его «Маху», а с другой – эти безумные сны и танцы. В этом художнике жило и безумное стремление к красоте, и в то же самое время он был открыт для таких откровений потустороннего мира, что это до сих пор потрясает. Но и в безобразном он был верен своей эстетике. Веласкес ведь не зря говорил, что нет в природе ничего столь безобразного, что в искусстве не стало б красивым…
– В современном искусстве одно в другое переходит далеко не всегда. Вспомните лозунг авангардистов начала ХХ века «Давайте смело творить безобразия!». Безобразия таковыми и остаются. Но их-то нередко и объявляют шедеврами. Вот и у нас, когда вдруг все разрешили, то некоторые наши вчерашние реалисты бросили выписывать классические линии и ринулись в искусство, по сравнению с которым даже китч покажется классикой.
– Да, появилось целое направление «перестроечного искусства»…
– Что это – искусство, коллаж, просто халтура?
– Для меня это «искусство» прежде всего конъюнктурно, безграмотно. Я как-то здесь, на Западе, больше соцреализм полюбил. Давно уже. Лицом к лицу, говорят, лиц нет увидать. Многое я чего там не любил. Может быть, потому, что слишком многим там нас пичкали через силу, навязывали. Мне и Репин казался абсолютно неприемлемой фигурой. А много лет спустя на Западе, когда я слегка отдышался, понял, какой это большой мастер и насколько глубокий художник. Именно здесь я заново прочел и полюбил его автобиографическую книгу.
Я Чайковского тоже в России не любил только потому, что его целыми днями передавали по радио, как и Шульженко. А тут у меня полное собрание сочинений Чайковского. И Шульженко я собрал, и Трошин у меня слезу вышибает. И Зыкину я полюбил. Я вообще ее считаю величайшей русской певицей. Она была у меня, кстати, в Америке. И для меня это был большой день в моей жизни. Такие голоса вообще раз в сто лет появляются. Если меня спросят, как Россия поет, я скажу: слушайте Зыкину. Это феноменальная певица.
– Вы не только художник, но еще и доктор искусствоведения. Помогите мне ответить на один вопрос. С начала ХХ века в изобразительном искусстве – где-то между реалистическим, фигуративным и чисто абстрактным, существует своего рода полигон, на котором пробует свои силы огромное количество художников. Скажите, есть ли критерий, по которому можно в этой армии отличить настоящего художника от шарлатана?
– У меня собраны тонны репродукций абстрактной живописи. Я собираю и изучаю не только то, что мне нравится. Меня интересует сам феномен современного искусства, его эстетика и антиэстетика, феномен коммерции…
Я живу в Сохо, в Нью-Йорке. И однажды я проходил мимо самой престижной галереи Лео Кастелли. Это человек, который, можно сказать, выпестовал современное американское искусство. Он «породил» Раушенберга, Джаспера Джона и многих других. Он выставляет иногда совершенно суперлевых. Так вот, в витрине его галереи свет был потушен, но был хорошо виден пьедестал без какой-либо надписи. На него кто-то водрузил черный пластиковый мешок для мусора. Я знал, что у Кастелли готовится очередная выставка. И первая мысль, которая мне пришла в голову была: а что это? Просто мешок или, чем черт не шутит, очередной шедевр?
Стоял я перед этой витриной и раздумывал – до чего же мы дошли. Вот я, человек, который хорошо знал Генри Мура (английский скульптор и график-модернист, классик фигуративной скульптуры, 1898–1986 гг. – В.Б.), любит абстрактную живопись и скульптуру, если она, конечно, высокого уровня, такого, как скульптуры наших соотечественников – Певзнера, Цадкина, Татлина, я, доктор искусствоведения, смотрю на этот мешок и не могу сказать, что это? Просто рабочий оставил мешок с мусором, или декоратор не успел повесить табличку, возвещающую о том, что эта скульптура никому не известного пока «гения»?
Современные бизнесмены от искусства создали такое магическое пространство, в котором творятся чудеса.
Есть там какая-то линия, до пересечения которой этот мешок останется мешком с мусором и будет, как ему и положено, отправлен на помойку. Но он может эту линию пересечь, и тогда он превратится тут же в произведение искусства, которое будет стоить 200–250 тысяч долларов, а то и больше. И о нем будут писать статьи, монографии, будут спорить о том, что за эстетическое послание он несет человечеству. И мало того что галерейщик заработает на этом мешке, искусствоведы будут зарабатывать на нем долгие годы.
– В России сейчас этаких шедевров более чем достаточно. Одно время инсталляции у нас в грош не ставили, а теперь они в фаворе. Впрочем, у нас и абстракционизм одно время объявляли антирусским искусством. Даже Кандинского.
– Кстати, совершенно несправедливо. У русских вообще есть свойство уходить в мир абстракции. Поэтому русские – самые сильные абстракционисты, даже те, которые уехали.
– Какими путями пойдет дальше современное искусство? Куда придет?
– Я не знаю, что в России происходит в этом плане. Но зато на Западе, мне кажется, уже начинают уставать от всего этого. И мне кажется, что придет такое время, когда просто возьмут большую метлу и погонят всю эту банду далеко-далеко. И придется им либо учиться рисовать, либо, как говорил Остап Бендер, переквалифицироваться в управдомы. Это не за горами. Я верю в красоту и в настоящую эстетику, в профессионализм верю. Я не считаю, что искусство всегда должно быть доступно массам. Уже потому, что по мере усложнения мира оно тоже усложняется. И понять современное искусство не просто без определенной подготовки. Вот иногда говорят: «Рембрандт же понятен». Но я не уверен, что Рембрандт действительно всем понятен…
– Но как же быть теперь с лозунгом «Искусство для народа»?
– Вы знаете, я верю в наш народ. Как и в любой другой народ. Я считаю, что интеллигенция повинна в том, что испортила вкус народа, когда старалась делать для него «что-то попроще», то есть понятнее. А народ, он, как ребенок, обладающий от рождения безупречным вкусом. И если его не тыкать носом – рисуй зайчика вот так, вот так – автомобиль, он будет рисовать удивительные вещи. Но стоит его поподталкивать, понаправлять некоторое время, все его детское восприятие мира – а оно-то и есть всего ближе к озарению в искусстве – исчезает. То же самое произошло, кстати, с нашим народом. Вот возьмите хотя бы наши народные наличники, прялки, коньки на домах. Да разве народ с таким изысканным вкусом не был бы способен понять современное искусство?
Под конец нашего разговора я спросил, на что вдохновила его поездка в постсоветскую Россию. И Шемякин сказал:
– Конечно, будут и картины, причем очень большого формата, в котором я люблю работать, потому и в Америку переехал, и скульптуры. Кроме того, у меня немало издательских планов. Я и с музыкой связан. Историю издания пластинок Высоцкого вы, очевидно, знаете.
Если же говорить об общем направлении моей работы, как художника, то в основном я намерен продолжать свою Петербургскую серию. Гротеск карнавала помогает почувствовать трагедию не только сегодняшнего мира, но и всего мира в его прошлом и будущем, во всех его измерениях, на всех меридианах. Ощущение трагизма, которое я вынес из России, не покидает меня и здесь, на Западе. Здесь, хотя тут и колбасы, и шмотки, и машин полным-полно, тоже попахивает катастрофой того же сорта – экологической, моральной, эстетической. Я ненавижу технику. И, если весь этот так называемый «технический прогресс» не остановить, то все мы полетим в тартарары, всей планетой…
2 сентября 2001 года на Болотной площади, по соседству с Кремлем, была торжественно открыта скульптурная композиция Михаила Шемякина «Дети – жертвы пороков взрослых». Страсти вокруг нее не утихают по сей день.
Композиция состоит из 15 фигур: двое играющих в жмурки детей с завязанными глазами и 13 окруживших их трехметровых монстров с человеческими головами и мордами зверей и рыб. Это те же шемякинские маски с Карнавала всех времен, только в бронзе. Так было принято рисовать пороки в Средние века, так их видел великий Гойя.
Следуя этой многовековой традиции, Шемякин назвал все пороки своими именами: все 13 скульптур обозначены на русском и английском языках и установлены в следующем порядке: «наркомания» (drug addiction), «проституция» (prostitution), «воровство» (theft), «алкоголизм» (alcoholism), «невежество» (ignorance), «лжеученость» (irresponsible science), «равнодушие» (indifference), «пропаганда насилия» (propaganda of violence), «садизм» (sadism), «для беспамятных…» (for those without memory…), «эксплуатация детского труда» (child labor), «нищета» (poverty), «война» (war).
Шемякин задумал эту свою аллегорию борьбы с мировым злом, когда своими глазами увидел беспризорных детей в Санкт-Петербурге и в Москве и познакомился со статистикой преступлений против детей в России. Это его потрясло.
Обращаясь к будущим зрителям, Шемякин написал: «Скульптурная композиция задумывалась и осуществлялась мною как символ и призыв к борьбе за спасение сегодняшнего и будущих поколений. Долгие годы утверждалось и патетически восклицалось: “Дети – наше будущее!”
Однако для перечисления преступлений сегодняшнего общества перед детьми понадобились бы тома. Я, как художник, этим произведением призываю оглянуться вокруг, услышать и узреть те горести и ужасы, которые испытывают дети сегодня. И пока не поздно, здравомыслящим и честным людям надо задуматься. Не будьте равнодушными, боритесь, делайте все, чтобы сберечь будущее России».
Владимир Большаков
Источник: Русский Вестник