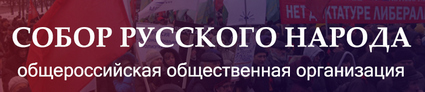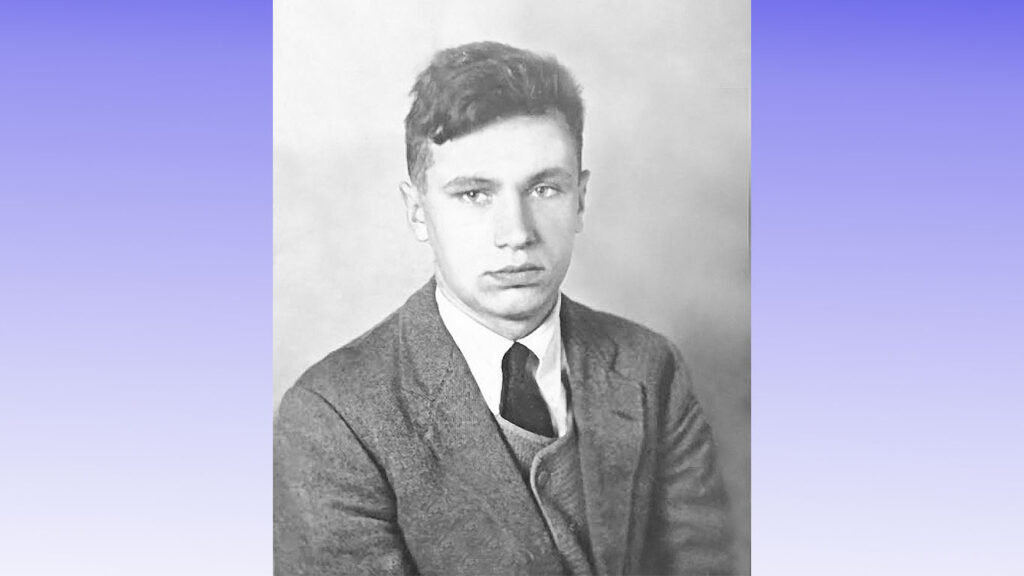
К 120-летию со дня рождения Бориса Поплавского.
Борис Поплавский был одновременно и типичным и не типичным представителем своего поколения – юношей дворянского происхождения, родившимся в России, в весьма раннем возрасте эмигрировавшим вместе с родителями после гражданской войны и подобно другим так и не нашедшим себе места в зарубежной действительности, хотя бы в качестве чернорабочего.
«Дирижабль неизвестного направления» – так называется последняя стихотворная книга, вышедшая в свет уже после его смерти в числе трех других (при жизни была издана только одна – «Флаги»). Дирижаблем такого же рода представляется и его личность, и его поэзия, и то, что можно именовать его религиозностью. Показательна запись на обложке одной из многочисленных тетрадей, куда он заносил впечатления о жизни: «Я по прежнему киплю под страшным давлением, без темы, без аудитории, без жены, без страны, без друзей. И снова жизнь моя собирается куда-то в дорогу, возвращается в себя, отходит от реализации».
При ознакомлении с его стихами может создаться впечатление, что он не совсем русский человек и совсем не русский поэт.
«Происхождение его не чисто русское, со стороны отца его род идет из Польши, со стороны матери — из Германии», – подтверждает мои подозрения один из мемуаристов, более других понимавший, что он из себя представляет. «В детстве, до войны, он три года провел в Швейцарии и Италии. В Москве учился во французской школе. Литература, не говоря уже о живописи, казались ему чересчур «декоративными разводами в двух измерениях, занятными арабесками, с подозрительной тенденцией к сонному буддийскому покою». Было четыре имени, к которым он относился с безоговорочным уважением: Лермонтов, Достоевский, Блок и Розанов. В античности его притягивал не греческий, а латинский мир. Одиссей казался ему туповатым чересчур благополучным, удачливым, самоудовлетворенным из тех, кто получил уже свою награду. Он улавливал преемственность от Гомера к музыке византийской церкви, но в отличие от большинства русских, он больше любил Виргилия. Его притягивали “Провинциальные римские города на морском побережье, с форумом и гаванью: «Было душно. В неуютной бане воровали вещи, нищих брили. Шевеля медлительно губами, мы в воде о сферах говорили. И о том, как, отшумев, прекрасно мир сгорит, о том, что в Риме вечер, и о чудной гибели напрасной мудрецов, детей широкоплечих. Надсмехались мокрые атлеты, разгоралась желтая луна, и Христос, склонившийся над Летой, в отдаленьи страшном слушал нас».
Как личность Поплавский тоже сформировался вне гущи русской жизни. Вот еще одно свидетельство от того же мемуариста – графа Николая Татищева, друга поэта, едва ли не самого близкого Поплавскому человека – ему принадлежит и предыдущее, и на него же я буду неоднократно ссылаться далее: «В 20-х годах в Париже Поплавский созрел и сформировался (не окончательно, конечно, — он всегда пребывал в процессе становления и напряженного роста, волнения, жизни, не только не переносил покоя, но и не стремился к нему) в глубоко католическом Париже… Бодлер, Рембо (которого он считал главным из своих учителей в поэзии), Лафорг, для всех их католическое мироощущение было органическим. Боль за мир, отчаяние от затянувшейся Страстной Пятницы, все это, не прекращаясь, сочится как кровь из всего настоящего здешнего искусства. Где уж тут думать о Воскресеньи и Преображеньи твари, какая там гора Фавор, когда сегодня, сейчас, и завтра, и через сто лет миллионы распятых на крестах людей кричат: «Зачем Ты меня оставил?». Здесь Поплавский нашел свою вторую родину. Готические соборы оказались ему ближе, чем наши пузатые храмы с розановскими батюшками, окруженными чадами мал мала меньше. Весь духовный путь Поплавского с его яростным динамизмом не православный. Русская церковь своим верным чадам дает умиротворение, он же отталкивался от этого, как и вообще от всего даром полученного, не выстраданного».
Тоже и в поэзии. Поплавский почти ничего не взял от уравновешивающих гармонией хаос русских поэтов, но многое взял от сумбурных модернистов-французов. Родиной для него стал Париж «с какой-то отдаленной проекцией на русскую бесконечность». Можно сказать даже – он был французским поэтом, пишущим на неуклюжем русском. «Главный грех Поплавского в его не многословности даже, а настоящем словесном недержании, – обличал его Глеб Струве, – больше того — в полном отсутствии чувства слова, без которого не может быть хорошего поэта, как бы ни был одарен от природы человек». Неорганичность, шероховатость языка, иногда нарочитая, и вправду очень ощущается, и это мешает правильному восприятию. И не только это: сам мир, предстающий в его стихах, не совсем органичен. Это весьма необычный мир, отличный от реального, не имеющий с ним ничего общего, неизвестно к чему относящийся и неизвестно кому принадлежащий. Во всяком случае – не автору: он описывается со стороны, синтаксис – привычен, но понятия смещены, оптика нарушена, сочетания слов странны и непостижимы. Авторский взгляд налицо, но он не в силах охватить то, что описывается. Нет, кажется, и лирического героя, нет неизбежного присутствия центристского я, само это местоимение почти не употребляется. И при этом – все в привычной, традиционной повествовательной, можно даже сказать – обыденной манере. Но обыденность, быт тоже отсутствуют: растворяющийся в воздушных далях мир фантастичен и в нем живут фантастические существа – начиная от людей и заканчивая очеловеченными, улетающими в никуда дирижаблями. Впечатление такое, что этот мир просто-напросто сконструирован в мозгу автора кем-то посторонним из первых пришедших на ум кубиков-слов, которые часто не соответствуют своим значениям, выпотрошенных, полых, старательно подгоняемых друг к другу, дабы создать цельную, нерасторжимую и претендующую на новую реальность поэтическую конструкцию. Она и создана, но весьма шаткая, призрачная.
В черном парке мы весну встречали,
Тихо врал копеечный смычок,
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо.
Розов вечер, розы носит ветер.
На полях поэт рисунок чертит.
Розов вечер, розы пахнут смертью,
И зеленый снег идет на ветви.
Темный воздух осыпает звезды,
Соловьи поют, моторам вторя,
И в киоске над зеленым морем
Полыхает газ туберкулезный.
Корабли отходят в небе звездном,
На мосту платками машут духи,
И, сверкая через темный воздух,
Паровоз поет на виадуке.
Темный город убегает в горы,
Ночь шумит у танцевальной залы,
И солдаты, покидая город,
Пьют густое пиво у вокзала.
Низко-низко, задевая души,
Лунный шар плывет над балаганом,
А с бульвара под орган тщедушный
Машет карусель руками дамам.
И весна, бездонно розовея,
Улыбаясь, отступая в твердь,
Раскрывает темно-синий веер
С надписью отчетливою: смерть.
Смерть – главная тема Поплавского: он словно и жил в ожидании «Пока на грудь и холодно и душно/Не ляжет смерть, как женщина в пальто». Вот еще одно стихотворение, могущее восприниматься как предсмертное воспоминание о России, которую он больше никогда не увидит:
Снег идёт над голой эспланадой;
Как деревьям холодно нагим,
Им должно быть ничего не надо,
Только бы заснуть хотелось им.
Скоро вечер. День прошёл бесследно.
Говорил; измучился; замолк,
Женщина в окне рукою бледной
Лампу ставит жёлтую на стол.
Что же Ты, на улице, не дома,
Не за книгой, слабый человек?
Полон странной снежною истомой
Смотришь без конца на первый снег.
Всё вокруг Тебе давно знакомо.
Ты простил, но Ты не в силах жить.
Скоро ли уже ты будешь дома?
Скоро ли ты перестанешь быть?
«В слова самые обыденные…он вкладывал то, что бесконечно их превосходило» – замечает Н. Татищев. Он же дает представление об отношении Поплавского к поэзии: «Он скептически относился к ремеслу поэта, считал наваждением эту музыку, бесовским наваждением». В подтверждение цитирует самого Поплавского: «Красота и поэзия — это вещи разные. Я ничего не говорю против отвлеченной, холодной античной красоты, в архитектуре, допустим. Но в стихах мы не можем не вскрывать, против своей воли, внутренний ужас нашего подсознания, всю эту борьбу, разочарования, -колебания между огнем и холодом, то, что у других так запрятано, что они и не подозревают ни о чем, — разве что в ночных кошмарах, но кто их помнит при свете солнца? Мы же выпускаем этих демонов гулять на свободе, встречаться с себе подобными, будить их в чужих душах, разлагать… Мы, лирические поэты, поэты субъективного, всегда останемся несозвучными эпохе, и люди правильно делают, когда загоняют нас в подполье или доводят до дуэлей или до самоубийства. И чем лучше стихи, тем они опаснее. Яд, отрава, никакой пользы строительству жизни. Ну, у меня горе, очень жаль, но какое право я имею заражать им всех и каждого. Вагон мчится, пассажиры заснули, вдруг врывается нахал и начинает всех будить, нести свою померещившуюся ему околесину, скажем, о том, что через три минуты поезд полетит под откос. Ну, и следует заткнуть ему глотку или выбросить на рельсы». «Разумеется, через час он мог утверждать совсем обратное, что людей следует будить и пр., – уточняет Татищев, – но ролью своей не гордился и от расплаты за нее не отказывался».
Отметим попутно, что и в манерах, и в облике Поплавского не было ничего от поэта: это был крепкий, сильный, физически развитый человек с великолепными мускулами, с некоторым усилием завязывавший узлом железные прутья, спортсмен, полупрофессиональный боксер. Часто выглядел и вел себя как апаш, вместо рубашки носил тельняшку. Стеснялся того, что пишет стихи, вслух признавался в равнодушии к литературе, с удовлетворением рассказывал о том, что любящий и внимательный к нему отец не удосужился прочесть ни одного из его стихотворений. Собственно, это нормально, ибо что такое литература в сравнении с полнотой жизни, – если, конечно, эту полноту хоть кто-нибудь способен ощутить (кроме святых, конечно, с которыми у Поплавского точно нет ничего общего). О выработке того, что принято называть поэтическим языком думал мало, мечтал научиться писать самыми корявыми словами – теми, которые звучат в пивных, в повседневных разговорах на улице. Кое-чего он в этом направлении достиг. Его друг, прозаик Гайто Газданов после смерти Поплавского напишет о второй его книге: «Первое впечатление от книги — бедность, монотонность, однообразие. Лишь изредка, в немногих стихотворениях, мы находим ту прежнюю, поэтическую «роскошь», к которой привыкли. Вряд ли можно было бы сказать, что Поплавскому изменил его огромный поэтический дар; но нельзя отделаться от убеждения, что он внутренне и неизлечимо перестал его ценить и придавать ему то значение, которое придавал прежде».
То, чем он занимался раньше, было абсолютной поэзией, совсем по Пушкину: автономной ото всего, не имеющей никакого смысла, кроме того, который сама в себе несет, тем более – какого либо прикладного значения: как вода течет себе и течет. Куда течет – не важно. Или – важно?
Для читателя – может и не важно, но не для Поплавского. Две самых главных слагаемых его внутреннего мира – Бог и он сам. Он был устремлен к Богу – такому, каким Он ему представлялся, в этом смысле был чисто русским юношей, из столь любимых Достоевским «русских мальчиков», со всеми их достоинствами и недостатками , желающими пропустить сквозь себя и разрешить все проблемы, которые предлагает им несовершенный мир и которых «Бог мучает».
Даже из стихов видно: Поплавского Бог точно мучает. Главной задачей его жизни и был «роман с Богом» (это его собственное определение). Звучит несколько вызывающе, может даже – и не несколько, но зато относительно к нему очень точно. В начале эмиграции этот «роман» развивался вполне традиционно, о чем свидетельствует Николай Татищев: «В эту эпоху Б. П. сильно возмужал и проникся необычайной религиозностью, каждодневно посещая церковные службы, а также увлекся скаутизмом. Тесное общение Б. П. с низами обездоленной русской эмиграции в Константинополе совершенно его переродило. Поэзия была заброшена, ее сменила глубокая мистика. Этот период жизни Б. П. можно охарактеризовать двумя простыми, но многозначащими словами: он скорбел и молился. Все деньги, которые давал ему отец, вещи, а часто и свой обед, Б. П. раздавал бедноте, и в его комнате не раз ночевали на толу вповалку 3—5 бездомных: студентов, офицеров, монахов, моряков и иных в буквальном смысле слова беженцев. В Константинополе Б. П. посещал подготовительные курсы на аттестат зрелости, охотно рисовал с натуры, много читал, иногда брался за случайную работу и возился с «волчатами» в Русском очаге, организованном Союзом Христианской Молодежи. Но все это Борис проделывал, смотря на жизнь сквозь покров глубокой мистики, как бы чувствуя дыхание истоков Византии, породившей православную веру, которой он отдался беззаветно». Затем, уже в Париже, он яростно борется за придуманного им Бога, самоутверждается в борьбе со Христом даже на исповеди у священника, испытывает непрестанное, никогда не покидающее его беспокойство. «Он не только не переносил покоя, но и не стремился к нему», утверждает Татищев. А философ Георгий Федотов обвиняет в том, что «он боролся с Богом, с какой-то злобой вгрызаясь в непостижимое», и добавляет: «Он погиб от собственной дерзости и бесстрашия». И вправду: Поплавский пытался постичь не Бога как Высшую личность, но как мерцание божественных и демонических эманаций внутри или извне себя. Ограниченность таких поисков отлично сознавал: «Я чувствую в себе не смешение тьмы и света, добра со злом, но две равные и обе совершенно абсолютные бездны морали и аморальности». Свои попытки соединить несоединимое он описывает в прозаических вещах, в дневниках; это же, естественно, является темой его, условно говоря, философско-богословских трактатов и дневников. Из них видно, что жизнь у Поплавского была тяжела, почти невыносима, но внешне он умудрился проживать ее легко, даже играючи. «Отличие от старого декадентства: то, что мы радостные, золотые. Умираем, радуясь, благословляя, улыбаясь. В гибели видя высшую удачу, высшее спасение», — рассуждает Поплавский в дневнике. Подозреваю, что такой игрой для него была и поэзия, которую он воспринимал как нечто для себя второстепенное и поэтому для обретения самого главного изо всех сил пытался с ней расстаться, и даже действительно важный для него «роман с Богом», который он стремился продлить в бесконечность. Однако богословские поиски его протекали вне Церкви и ничем хорошим закончиться не могли. «Роман Поплавского с Богом вылился в ничто» вынужден признать знавший его более, чем кто либо, Татищев. Поэзия, наркотики, скандалы, которых он не чуждался, драки, в которые часто вступал – все это было не более как внешним выражением экзистенциального конфликта с миром. Главное происходило внутри, но и там не было ни света, ни мира, ни тишины.
За несколько дней до смерти Борис Поплавский определил ставшую для него привычной ситуацию так: «Ты скован абсолютной темнотой греха, ты идешь, как слепой, среди тысячи прожекторов, перед стихиями, ангелами и слонами Апокалипсиса, и не ищи, следовательно, не тщись воздать кому-нибудь по заслугам. Ты не католик и не художник, не поэт и не писатель, ибо все это для тебя суррогаты твоей аскезы, ты религиозный уникум, но религиозность твоя демонична и не благодатна, ты проклят, ты чудовище, ты человек вне закона, величественный и старомодный, но смирись с самим собой и иди своим путем с отчаянным упорством получеловека». И он так и делал: руководствуясь отчаянием, шел по жизни вплоть до самой смерти.
Комментарий Татищева: «Вся его жизнь свидетельствует о злобном рвении освободиться из оков тяжкой природы, о яростном насилии над этой природой и над своей скованностью. Долгое время его вводила в заблуждение теософия. Молитва соединялась с медитацией (там не так ждешь благодати: больше полагаешься на свои силы и свою волю). Далее – еще определенней: «Христианская мистическая литература знает несколько степеней, по которым восходит человек, предавшийся «вниманию и молитве». Сперва молитве сопутствуют и ей мешают образы. Мир невидимый становится частично видимым, человек видит ангелов и бесов. Это область миражных прельщений, здесь царство воображения. Малейшее ослабление внимания, и погружаешься в цепь астральных снов, тягучее и кажущееся безвыходным состояние на границе между сном и бодрствованием. Человек вязнет в трясине навязчивых ритмов, его засасывают словесные и иные ассоциации».
«…он надеялся завоевать благодать напряжением молитвы. Думал, что благодатное разрешение не приходит, потому что он слаб, недотренирован, отсюда эта гимнастика: еще больше напряжения, и достигну. Не надо тратить силы на литературу — все на свете мешает молиться. Появлялась боль в голове, после того как он выдерживал 60 минут напряженной медитации. Казалось, что в самый важный момент, когда вот-вот все должно разъясниться, не хватает сил добежать, донести: слаб и ничтожен. «В отношении к Богу я также перехамил, как и в отношении к людям, понадеялся на свои силы и забыл, что все дается от любви и милости других, не только от того, что сам даешь. Переоценил свои силы».
Следующий этап: «Роман человека с Богом переходит в новую фазу, больше в ней ни упреков, ни яростных вопросов: «как Ты мог, как решился, не пожалел», человек увидел, что ответа не будет. Он не то что смирился или успокоился, только смертельно устал. В «Снежном часе» он многократно возвращается к теме скованности, инертности, несвободы, к тому тяжелому свинцовому сну, который вдруг накатывает, когда всей душой жаждешь погрузиться в молитвенное состояние: «Спать, лежать, закрывшись одеялом, точно в теплый гроб уйти в кровать, слушать звон трамваев запоздалых, не обедать, свет не зажигать».
Он уже рассчитывал на некие предварительные итого: «Пора совсем отказаться от писания стихов, да, и эту музыку надо преодолеть. Почему? Потому что это все прелести (в богословском смысле). Музыка — прелесть. Стихи — прелесть. Книги — прелесть. За месяц до смерти (стоя, облокотившись о книжный шкаф и покоя на книгах руку): «Знаешь, все эти наши книги — ни к чему, я от своих хочу освободиться, ищу кому бы подарить. Не нужно, ничего не нужно. И читать не хочется». Он уже начинал достигать положительных результатов, своей многолетней упорной аскетической борьбой как будто одолел соблазны. «…» Музыка преодолена. Последние стихи сжаты, обнажены, голы, без декораций словесных и музыкальных. Он уже не пишет стихов, еще пишет прозу (возмущение, протест еще заставляют его писать). Но он уже близок к тому, чтобы и от этого освободиться. Нищим должен предстать человек перед Христом. Не сразу к нищете приходит человек, сбросив лохмотья своих знаний, мыслей, ощущений, гордого ощущения всей силы своей личности…»
В начале октября 1935 году Поплавский погибнет – в общем-то случайно и довольно нелепо, от передозировки наркотических веществ, за компанию с мало знакомым человеком. Смерть проведшего жизнь в безвестности и нищете поэта прославит его ровно на один день. «Все французские газеты написали о нём. Русские жители Парижа узнали о нём. «Окололитературные люди» вдруг услышали, что среди нас был талантливый поэт». (Из мемуарной книги Н. Берберовой «Курсив мой»).
От той же мемуаристки: «В редакции «Последних новостей»… узнали об этом и послали репортера в квартиру, где жил Поплавский. Репортер вернулся в редакцию часа в четыре. Выпускающий (он же – секретарь газеты, он же – душа газеты) А.А. Поляков иронически спросил:
– Ну как? Разложение? Гниение? Монпарнас? Наркотик? Поэзия, мать вашу!
Репортёр посмотрел на него и сказал:
– Если бы вы, как я, только что видели кальсоны, в которых Поплавский умер, вы бы поняли, – и в комнате наступило молчание».
Виталий Яровой
Источник: Завтра