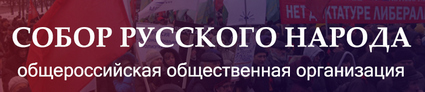К 100-летию Игоря Ростиславовича Шафаревича: беседа из фондов радио «Радонеж».
С.Н. Герасимов: Игорь Ростиславович, нашу беседу я бы хотел начать с отрывка из известного философско-поэтического эссе Хайдеггера, который носит название «Проселок».
«Глаза и руки матери были всему границей и пределом. Словно хранила и ограждала все бытие и пребывание ее безмолвная забота. И путешествиям-забавам еще ничего не было ведомо о тех странствиях и блужданиях, когда человек оставляет в недосягаемой дали позади себя любые берега…»
Расскажите о Ваших истоках, откуда Вы вышли в это жизнь, в это бытие?
И.Р. Шафаревич: Главное действующее лицо моего детства – шкаф, полный книгами, который остался еще от моего деда. Помню открытие для себя культуры. Мальчик, с которым мы дружили на даче, а он уже с тех пор стал генералом, дал мне книжку со словами, что может я прочитаю, но страшная мура. Я увлекся. Это была римская история, очень стандартно написанная для школьников немецких, а потом переведенная на русский. Меня книга захватила, открыла что-то, сделала из меня книжного червя, который любит копаться в книгах, фактах, добывать истину. Так вот этот шкаф я помню прекрасно. Дед мой был преподавателем духовной школы, и сохранились в шкафу классики, которых я читал. Достоевский, Толстой, Розанов. А дед был человек скуповатый, по-видимому, все покупал в бумажных переплетах, а сам потом переплетал в кожаные, более жесткие. Кроме того, у меня была своя этажерка, которая предназначалась только для моих книг. Там я ставил былины, сказки, что соответствовало моему возрасту. Обаяние русского прошлого меня захватило, я его почувствовал. Это родители мне видимо смогли передать. Вообще-то они к самой не сановной и незажиточной интеллигенции дореволюционной относились, но я помню, что жили они, не думая, что на следующий день должна быть чистая рубашка. Вдруг они погрузились в иное бытие – расстрелы, сыпной тиф, вши, на рубашке все время которых нужно собирать и которые несмотря ни на что появляются снова. После этого у них в жизни осталась одна цель – ребенка вырастить. Все помыслы были сосредоточены на мне, на том, чтобы меня поднять и дать образование, хотя в плане учебы тогда было просто.
С.Н. Герасимов: А ведь отца водили расстреливать?
И.Р. Шафаревич: Два раза водили во время гражданской войны. Один раз потому, что палачи хотели определить на нем ботинки или сапоги, как он говорил, его от фонаря к краю вели и у каждого фонаря осматривали – сапоги у него или ботинки. Увидели, что сапог на нем нет, а сапоги тогда страшно ценились, то решили, что лучше не мараться и его отпустили. И деда также вели расстреливать, потому что китайцы его захватили. Он говорил, что это было жутко страшно, потому что человек, которого ты просишь жалеть родителей твоих старых, воспринимает это как какое-то чириканье, он не понимает, что ты говоришь.
С.Н. Герасимов: А он изменился после этого опыта? Было это инициацией некоторой?
И.Р. Шафаревич: До войны все это поколение было глубоко религиозным. И он, и мой учитель по университету, были очень религиозными детьми. Отец даже собирался поступить в монашество и даже выбрал себе монашеское имя отец Савватий. Мой учитель по университету рассказывал, что они школой причащались на Пасху, всем классом, и нельзя было играть в салки – каждый подставлялся, желал, чтобы его запятнали. А после этого отец и мать мои говорили, что мы можем верить лишь в абстрактного Бога, который равнодушен к человеку. Но Бог, которого можно о чем-то попросить, в беде обратиться, уже был недоступен. Отец крестился уже совсем в старости, но непонятно было, понимает ли он, что делает.
С.Н. Герасимов: Бог стал восприниматься после этих всей страшных событий с деистической стороны?
И.Р. Шафаревич: Да, буддистское какое-то восприятие. Но они не отрицали существования Бога. Отец с жалостью говорил, что они сожалеют о чем-то теплом, что потеряли, атеистического задора в них не было.
С.Н. Герасимов: Главной смысловой нагрузкой их жизни было охранение юного Игоря?
И.Р. Шафаревич: Одна ценность – ребенка сохранить. Я с родителями препирался долго – на демонстрацию мне ходить не хотелось, а они заставляли, я пошел, нарочно не нашел это шествие.
С.Н. Герасимов: Как они относились к той России, которая канула в лету в 17 году?
И.Р. Шафаревич: Что-то минувшее и невозвратимое – вот так. Никогда невозвратимое.
С.Н. Герасимов: Родители передавали Вам рассказы, чувствовали ли они ренессанс духовный культурный, который был основополагающей доминантой начала XX века для России?
И.Р. Шафаревич: Я восстановил это сам по себе, но не по их рассказам. Я пришел к выводу, что революция происходит вовсе не в период кризиса, а во время наплыва в народе сил, которые не находят правильного выхода.
С.Н. Герасимов: Как вы формировались? Как Вы воспринимали систему, в которой оказались, где прошел водораздел, когда Вы стали понимать, что Вы принадлежите великой нации?
И.Р. Шафаревич: Система воспринималась, как нечто данное, как окружающий мир, объективная реальность. Помню, был членом Комсомола и в то же время ходил на семинар историка Виппера, который был в сложном положении, потому что его брат был прокурор, который Бейлиса обвинял по делу Бейлиса в Киеве.
С.Н. Герасимов: Ваше формирование в школе – как Вы обнаружили в себе сверхъестественные свои способности? Без лести – согласитесь, сразу после школы сдать экстерном в университет – это весомо. Дар, как нечто такое несообразное общему состоянию?
И.Р. Шафаревич: Есть такое явление, когда человек просто чувствует, что ему что-то дается. Дар, может быть. Это замечательно описано Пушкиным в 8 главе Евгения Онегина:
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.
…
И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.
Пушкин явно воспринимает это как существо, с которым он встретился. Это я замечал у многих ученых поэтов в широком смысле.
С.Н. Герасимов: Вы пережили нечто похожее?
И.Р. Шафаревич: Когда я прочитал ту книжку по римской истории. Тогда это был шок, который открыл мне, что человеческое существование не оканчивается тем миром и временем, в котором мы живем. А математика незаметно вошла в мою жизнь…
С.Н. Герасимов: Отец или мать говорили Вам, что Россия была православной страной, о религиозной составляющей бытия?
И.Р. Шафаревич: Нет, об этом говорила только старая бабушка, которая водила меня в церковь, причащала, иногда причащалась сама, приносила просвирку, а родители совершенно были чужды, сами не хотели меня ставить в ложное положение. И сами не воспринимали. Помню своего учителя по университету, который говорил, что странно, но у него до тех пор было влечение к молитве, которое осталось с молодости.
С.Н. Герасимов: Хочу спросить о феномене дара. Вы его относите к дару, как некой платоновской идее, к дару, имеющему свое место в мире идеального. А сюда он спускаясь, может разойтись по разным потокам в различных направлениях деятельности человека. Или это нечто особенное?
И.Р. Шафаревич: Лучше всего Пушкин об этом сказал. То, что я декларировал или же Моцарт и Сальери вспомните:
Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Чувство красоты возникает. Я его во всех учениках своих видел. У каждого возникало ощущение, что то, что делаю, – красиво, внутренне красиво.
С.Н. Герасимов: Как прошли 1930-е годы? Какой был круг Вашего общения, как Вы формировались?
И.Р. Шафаревич: Я сдал экстерном экзамены в университет, и был далек от этой жизни. Я скорее задавался себе абстрактным вопросом: почему окончив Мехмат, в лучшем случае могут устроиться в техническое учебное заведение, преподавать там математику, получать немного денег. Ответ я нашел такой: люди искали пристанище от жестокой правды жизни. Оттого, что будут или идеологическими дисциплинами заниматься, или им будут спускать планы, которые они будут обязаны выполнять, или у них рабочие будут зеки или еще что-то такое.
С.Н. Герасимов: Это Вы уже юношеским своим сознанием поняли?
И.Р. Шафаревич: Точно так.
С.Н. Герасимов: А культ Сталина? Вакханалия вокруг обожествления главы государства? Как Вы это юношей воспринимали?
И.Р. Шафаревич: Это от родителей, скорее от отца, который к этому относился очень скептически. Он говорил, что у него есть незаурядные лингвистические способности, потому что даже речи Сталина понимаю. Во время войны я напряженно слушал речи Сталина о взятых городах.
С.Н. Герасимов: Как родители отнеслись к тому, что у Вас обнаружился этот дар, когда Вы начали так бурно развиваться?
И.Р. Шафаревич: Они к этому относились практически, считали, что это поможет мне выжить, повысит мою жизнеспособность. И было так. Какой-то министр мне на съезде сказал, что преимущество власти советской проявляется в том, что есть вот такие люди, которые в 16 лет по окончании школы сдают экзамен за последний курс университета.
С.Н. Герасимов: А не было у родителей такого ощущения, что они оказались в аду?
И.Р. Шафаревич: Нет. Было тяжело, они вспоминал о прежней жизни, как о безвозвратно минувшей. Мать вспоминала и рассказывала, хотя мне это было до лампочки, как сейчас говорят, о том, что она танцевала на балах с какими-то кавалергардами.
С Н. Герасимов: Оценку этого пытался дать отец?
И.Р. Шафаревич: Нет. Он просто ежился как-то, как от чего-то неприятного.
С.Н. Герасимов: А когда подошел срок его перехода в другой мир, он стал более откровенен с Вами?
И.Р. Шафаревич: Нет, его мировоззрение было очень устоявшимся. Было важно выжить. Однажды звонил Солженицын, это без сомнения был он, мы потом поговорили, но отец подумал, что это какая-то провокация.
С.Н. Герасимов: Это уже было, когда Солженицын уже стал известен?
И.Р. Шафаревич: Верно.
С.Н. Герасимов: Вы с ним познакомились еще до войны?
И.Р. Шафаревич: После войны, когда его лучшие произведения были опубликованы.
С.Н. Герасимов: Вам дали перед войной Сталинскую премию?
И.Р. Шафаревич: Нет, дали Ленинскую, когда она появилась из Сталинской.
С.Н. Герасимов: Премию дали? Вы вроде говорили, что приемник на эти деньги купили.
И.Р. Шафаревич: Нет. Это наверное была сталинская стипендия. Мы купили на нее. Жили бедно, в коммуналке, где жил 21 человек. Мы смогли купить приемник, я смог слушать речи. Меня все время учили языкам – немецкому, английскому, французскому. Брали учительниц. Стало ясно, что домашним способом невозможно выучиться.
С.Н. Герасимов: Родители владели языками?
И.Р. Шафаревич: Да, в школе до революции в гимназиях учили латынь, французский, немецкий. Отец первый год учился, когда не было древнегреческого. Ко мне ходили учительницы, старушки, учившие скучно ужасно. Читали тексты, которые считались чистым языком Уайльда или Киплинга, например. Мне казалось скучно это, пока наконец не появился приемник. Я стал слушать речи политических деятелей со всего мира, и это уже было страшно интересно. Тогда я языками, по-видимому, и овладел. Важно, чтобы был стимул.
С.Н. Герасимов: Тогда не глушили?
И.Р. Шафаревич: Нет, нет.
С.Н. Герасимов: Появилось ли у Вас ощущение, что были люди, как родители, которые сохранили и несли в себе культурное и интеллектуальное обаяние дореволюционной, прошлой России?
И.Р. Шафаревич: Такие люди, пожалуй, были, но я не помню, чтобы я их особенно выделял или ценил.
С.Н. Герасимов: Вы юным были замкнутым или наоборот?
И.Р. Шафаревич: Круг общения мой тогда – товарищи по школе. Они были обыкновенные, если русские, то из очень простой среды вышедшие. У одного отец был электромонтер, другой жил с матерью, которая была уборщицей. Или это были евреи из интеллигенции.
С.Н. Герасимов: Вы рассказывали, что при евреях и детях было неудобно говорить отрицательно радикальное о советской власти, о коммунистах?
И.Р. Шафаревич: Я не уверен. Может быть, мы просто боялись говорить об этом вслух. Но помню случай, когда я стоял с товарищем в очереди, чтобы купить железнодорожный билет и мы обсуждали содержание листовки, которую можно было написать. Окружающие шикали, чтобы мы, дураки, замолчали. Они хотели сказать, наверное, что мы неосторожны, что так не надо. Но никто на Лубянку нас не отвел.
С.Н. Герасимов: Диссидентство было у Вас в крови изначально? Проявилось из ничего. Это недовольство окружающим миром.
И.Р. Шафаревич: Интеллигенция всегда недовольна окружающим ее миром – такое уж у нее свойство.
Источник: Радонеж.ру