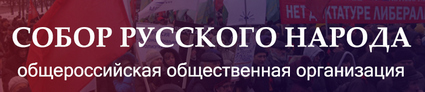О незабытой прозе Константина Крылова.
Надеюсь, что попытка оценить феномен литературного творчества Константина Крылова (он же — Михаил Харитонов, он же — Юдик Шерман, он же — Игорь Чернышевский) сейчас, через два с лишним года после его смерти от инсульта, уже не будет восприниматься как неуместная или преждевременная. Тем более, применительно к его прозе, поскольку признавать значимым или хотя бы заметным явлением отечественной поэзии “привязанные” к этому феномену, “сопутствующие”, а равно и совсем “отвязанные” стихи данного автора способны разве что особые поклонники его таланта или “просто читатели”, толерантные к обсценной лексике.
Для начала — несколько соображений контекстного характера.
Как известно, в 1834 году Виссарион Белинский, в полном соответствии с одной из классических апорий Зенона Элейского, сообщил тогдашнему русскому обществу, что писатели у нас есть, а вот литературы — нет, то есть для того, чтобы “куча” литературы сложилась из “зёрен” писательского творчества, нужна некая формообразующая идея, без которой и вне которой непосредственное эстетическое восприятие читателями литературных произведений “не считается” и ничего не значит. Чуть позже, примерно через год, было опубликовано первое “Философическое письмо” Петра Чаадаева, исполненное той же мыслью — пусть уже не о русской литературе, но о России и её историческом предназначении для человечества. То есть сама “идея об идее” тогда уже носилась в воздухе нашего Отечества, но первым “поймал” её и представил обществу будущий “неистовый Виссарион” — и “процесс пошёл”: западники, славянофилы, “критический реализм”, революционеры, “социалистический реализм”, диссиденты, “конвергентный постреализм”… Пока всё?
Сегодня в России, похоже, наблюдается такая же ситуация: писатели у нас, несомненно, есть, а вот литературы снова нет. Куда же она делась? Что с ней: впала (или специально введена?) в управляемую кому, в рыночный анабиоз, пребывая в котором вот уже скоро треть века видит сны — и даже не сны, а “фэнтези”, любимый жанр современных наших писателей, большинство из которых сами — той же “фэнтезийной” природы, как мнимые числа, необходимые прежде всего в сложных формулах разных социально-политических расчётов?
Да, несомненно, однако это лишь часть проблемы, один из самых известных и популярных ракурсов её представления. Сама же проблема гораздо шире, и касается она сейчас не только собственно российского общества, но всего человечества в целом, поскольку более-менее не противоречащий общепринятому ранее стандарту ценностей (даже в форме “Свобода. Равенство. Братство”) образ будущего категорически отсутствует, а немногие выжившие среди созданных по итогам более чем пятисотлетнего глобального (идейного в том числе) лидерства коллективного Запада варианты даже как “фэнтези” тянут разве что на очень “чёрную” антиутопию, среди которых Great Reset от Клауса Шваба и Карла III — далеко не самая “чёрная”. В своём историческом развитии все мы забрались на самую вершину “технологической горы”, с которой видно множество путей, разносторонне ведущих вниз, но пока ни одного — в сколько-нибудь приемлемое для всего человечества (и для России в том числе) будущее?
Тяжкое ощущение безысходности в самых разных его вариациях пронизывает всю современную культуру: как западную, где всё более очевидно доминирует “культура отмены” всего и вся, вплоть до вида Нomo sapiens в целом, так и незападные, где прежние “метрополии” теперь воспринимаются не в качестве идеала и образца для подражания, а как “слепые поводыри слепых”.
С учётом этих вводных литературное творчество Константина Крылова представляет собой феномен достаточно интересный — и не только в отечественных рамках — поскольку он исходит из позднесоветской “застойной” (и вполне достойной) версии общемировой культуры, рефлексивно сопоставленной с опытом поколения: “перестройкой”, крахом СССР, “святолихими девяностыми” и так далее. Здесь, наверное, стоит заметить, что сам Крылов происходил из весьма привилегированных “спецслужбистских” кругов советского общества — правда, скорее научно-технического, чем оперативного плана, а потому процессы конвертации власти в собственность и обратно явно не входили в круг его личных приоритетов, хотя сами по себе, как предмет исследования и описания, всегда оставались в центре внимания. При этом привычка проверять всё: суть ли оно то самое, за что себя выдаёт, а главное, знает ли об этом и насколько — несомненный знак этого крыловского происхождения и воспитания. А уж умение видеть проблему там, где подавляющее большинство видит общее место, находить соответствующие коннотации с “нужными” образами отечественной и мировой культуры — это уже не впитанное и не воспитанное, а личный дар автора, который становится очевидным и бесспорным примерно со второй-третьей страницы чтения большинства его произведений (уровень интеллектуального “сопромата” здесь таков, и его приходится преодолевать).
Художественное творчество Константина Крылова в гораздо меньшей степени является “насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом”, чем “Бесконечный тупик” Дмитрия Галковского, и в ещё меньшей степени является попыткой “делать русскую литературу по западным стандартам и правилам”, как у Виктора Пелевина. Крылова интересуют не сами по себе эти стандарты и правила, а возможность их “импортозаместить”. Все наиболее значимые его художественные произведения представляют собой яркие дистопии как вариант антиутопии: либо в относительно чистом её виде (повесть “Рубидий”, романы “Факап”, “Золотой ключ, или Похождения Буратины”), либо в столкновении с утопией (повесть “Успех”, роман “Третий человек”, или, точнее — “Третij человек”, в соответствии с крыловским планом новой реформы русской орфографии). Показательно, что в первом варианте автор неизменно отталкивается от существующей литературной основы (выбор которой: произведения братьев Стругацких и сказка Алексея Николаевича Толстого, — тоже о многом говорит), а во втором — пытается создать оригинальную образную систему. Во всех вариантах первопричиной описываемых им событий оказывается некая цивилизационная катастрофа (нехватка ресурсов, социальный переворот, смертельная пандемия и т. п.), последствия которой так или иначе преодолеваются, но в этом процессе для автора ничего не значат его герои, их жизнь и смерть, они — лишь фрагменты общего замысла. Почувствовать себя физически отравленным, как Флобер после описания им самоубийства госпожи Бовари или, как Пушкин, удивиться замужеству Татьяны, или признаться, как Лев Толстой: “Герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы!” — никаких проявлений или хотя бы следов подобной творческой эмпатии с персонажами своих произведений у Константина Крылова найти нельзя. Его произведения — как сыгранная гроссмейстером шахматная партия или компьютерный квест опытного геймера: красиво, особенно для знающих тонкости игры, и даже увлекательно, но это всё же игра, а фигуры и персонажи — необходимая часть её, не более того, все ходы — по правилам.
Скептически-брезгливое отношение Крылова к людям вообще (одно определение “хомосапый”, от Нomo sapiens, из “Похождений Буратины…” здесь дорогого стоит, как и неоднократно декларированная им в своих произведениях управляемость человеческих сообществ нелюдью) и к русским людям в частности (особенно в их нынешнем “постсоветском” состоянии) — несомненное проявление общемирового дисгуманизма в отечественных реалиях. Как оно соотносится с утверждением того же автора: “Ничто из написанного мной не может использоваться для отрицания или умаления прав русской нации, её осуждения или уничижения, или нанесения ей какого бы то ни было иного ущерба. Любые фрагменты моих текстов, использованные подобным образом, следует считать заведомо недобросовестным цитированием, противоречащим воле автора, и вырванными из контекста. То же самое касается интерпретаций моих текстов”? Возможность чего-то подобного он уже тогда предполагал или даже считал делом неизбежным?
В отечественной истории России Константин Крылов, создавший собственную концепцию России как “прекрасного Севера будущего” видел слишком много “чёрных дыр” и “белых пятен” — чуть ли не со времён Крещения Руси, Ивана Грозного и Петра Великого вплоть до современности, с особенным упором на беды советской и постсоветской эпохи.
В “Рубидии” автор описывает НИИЧАВО братьев Стругацких из “Понедельника начинается в субботу” каким он мог быть в последние перестроечные годы, и место творческой дружной работы советских магов всех времён и народов представлено в этой повести в основном (за редкими исключениями) как сборище злобных колдунов, стремящихся продать и уничтожить друг друга, причём, оказывается, здесь так было всегда, только раньше скрывалось за фасадом лицемерных общественных приличий.
Позиционирование Константином Крыловым себя в качестве русского националиста и при этом не православного, не язычника и не коммуниста, а зороастрийца — тоже не случайность. В отмеченном выше культурном контексте дорога к зороастризму в 99,9% случаев лежала через Ницше и “сверхчеловека” (“Так говорил Заратустра”), и как бы далеко ни зашёл на своём пути взыскующий истин Ахура-Мазды адепт, пыль ницшеанства неизбежно остаётся на его подошвах.
В целом то, чем занимался Константин Крылов, можно назвать попытками социально-философского программирования, в том числе средствами литературы. То есть в русской литературе он работал по специальности. Вернее, по двум своим основным специальностям: программиста и философа, — сразу. Написанные им с этой целью литературные “коды”-крылья, несомненно, изящны и красивы. Вопрос только в том, насколько “рабочими” они окажутся при решении тех задач, под которые создавались, и когда эти задачи начнут (придётся?) решать настоящим образом. “Мы пока ещё всерьёз не начинали”.
Георгий Судовцев
Источник: Завтра