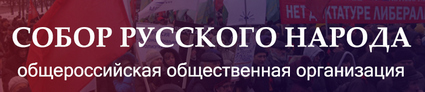К 205-летию И.С. Тургенева.
«Рудин» (1855) – первое произведение романного творчества русского писателя-классика Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) в ряду его замечательных романов: «Дворянское гнездо» (1858), «Накануне» (1859), «Отцы и дети» (1861), «Дым» (1867), «Новь» (1877).
Один из ведущих мотивов, определяющий идейно-эстетическую структуру образа и своеобразие характера главного героя романа «Рудин», восходит к христианскому сказанию о вечном страннике – Агасфере. На него указывают в эпилоге сам Рудин и его знакомый Лежнев, сменивший холодную неприязнь к актерствующему «человеку фразы» горячим сочувствием «бесприютному скитальцу». Мотив скитальчества, неизменно сопровождающий Рудина и проходящий сквозь всю художественную ткань текста, в финальных сценах сгущается, концентрируется, получая, наконец, свое истинное именование: «Ты назвал себя Вечным жидом».
Вечный жид – легендарный Агасфер, согласно преданию, не дал приюта и отдохновения Христу, когда Господь, шествуя по Своему крестному пути к месту Распятия на Голгофу, остановился у стены Агасферова дома. За это Агасфер был лишен не только своего дома, но и вообще какого-либо пристанища, обречен на вечные скитания до второго пришествия Христа. Такая кара генетически восходит к наказанию библейскому завистнику-братоубийце Каину, которого Бог навеки лишил покоя и обрек неприкаянно скитаться по свету.
Тургенев в «Рудине» представил собственную трактовку сюжета об Агасфере. До времени скрытое в подтексте религиозно-философское наполнение романа в финале прорывается на поверхность, являя себя в христианской концепции мира и человека: «Все мы под Богом ходим». О действии Высшего Промысла в человеческой судьбе напоминает Рудину Лежнев в их прощальной беседе: «А почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение».
«Высшее» назначение грешника Агасфера не только в том, что он вечно несет свое наказание, но и в том, что тем самым он вечно свидетельствует о Боге. Также Рудин, ни разу не упоминая имени Христа, в моменты душевного подъема, высокого вдохновения невольно – «для него самого неожиданно» – становится провозвестником Божественных установлений: «…казалось, его устами говорило что-то высшее»; «Рудин говорил о том, чтó придает вечное значение временной жизни человека». Герой признает, что «быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости».
Мотив бесприютности и скитаний не как «охота к перемене мест», но именно как наказание за грех, восходящий к Агасферу и укорененный в более древнем библейском образе Каина, – один из ведущих в мотивном комплексе, формирующем образ Рудина.
Он всегда в пути, и в гостиной Дарьи Михайловны Ласунской оказался также случайно, проездом, с дороги. Его внезапное появление (ожидали другого гостя) предваряет «стук экипажа». Драматическую развязку свидания с Натальей у Авдюхина пруда сопровождает «легкий стук беговых дрожек» – как предвестие того, что Рудин вынужден будет вскоре покинуть дом Ласунской: «Он уезжает… Ну! Дорога скатертью». Впоследствии характерные звуки дороги – отрывистое позвякивание бубенчиков, стук колес «небольшого тарантаса», «плохенькой рогожной кибитки» и, наконец, даже «телеги» – устойчивый атрибут героя-путника. К тому же перемена вида дорожных экипажей наглядно свидетельствует о том, что с годами странник, нигде не нашедший себе места, не сумевший применить себя ни к какому делу, попадает все в более стесненные жизненные обстоятельства, бедственное – вплоть до нищеты – положение.
Скандинавская легенда, поведанная Рудиным в первый вечер у Ласунской: «Птичка, как человек в мире: прилетела из темноты и улетела в темноту», явилась аллегорией его собственной судьбы. Образно говоря, Рудин прилетел из темноты и улетел в темноту – в неизвестность, недолго побыв «в тепле и свете». В то же время Тургенев представил здесь метафору человеческой души. Та «темнота», откуда она вылетает и куда улетает, непостижима для земного разума, недоступна физическому зрению.
Открытый писателем в его первом романе образ одинокой птицы без гнезда – как символ трагизма жизни человека: «Наша жизнь быстра и ничтожна <…> в самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо», стал философской универсалией и прошел через все тургеневское творчество, обретя свое завершение в прощальном цикле «Стихотворений в прозе» (1878–1883): «Устала бедная птица… Слабеет взмах ее крыльев; ныряет ее полет. Взвилась бы она к небу… но не свить же гнезда в этой бездонной пустоте!»
Прозвучавшую в романе легенду о птице можно переосмыслить и в православном ключе. Тогда она приняла бы не трагический, а спасительный характер, как, например, в письме святителя Феофана Затворника о духовной жизни: «Бог в помощь, спасайтесь! Со страхом и трепетом подобает нам проходить дело свое, и житие свое, и служение свое, то, что кому положено, и где и как положено. Как райскую птичку, надо беречь сей страх, чтобы не улетел. Улетит, трудно поймать. Чтобы не улетел, надо двери клети затворить: собрать мысли и связать чувства вниманием».
Пустая фраза без Бога заполняется в итоге противоположно направленной темной силой. Она словно персонифицируется в инфернальное существо, преследует героя, точно злой гений, и становится источником гибели. В финале Рудин осознает: «Фраза, точно, меня сгубила, она заела меня, я до конца не мог от нее отделаться».
В безблагодатной фразе нет духовного горения. Хотя внешне Рудин может «разгораться», внутренне он остается «холоден, как лед». Мотив огня, сопутствующий герою, парадоксально антиномичен. Сама фамилия «Рудин», содержащая образный намек на огонь, этимологически многозначна и противоречива. Будучи производной от слова «руда» в значении «горная порода, содержащая металл», она указывает на силу и твердость. В то же время в русских говорах слово «руда» обладает большой смысловой объемностью. Наиболее распространенное значение – «кровь».
В евангельском свете кровь указывает на неизмеримую духовную высоту самопожертвования Христа на Голгофе во искупление человечества: «Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26: 28); «Кровь Иисуса Христа <…> очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1: 7).
Жертвенная кровь Рудина на брошенной баррикаде – «Пуля прошла ему сквозь самое сердце» – оказалась бессмысленным и бесполезным жертвоприношением. В тургеневском романе мотив крови реализуется также в трагических стихотворных образах призрака «с кровью на груди», «кровавых жизни незабудок», которые косвенно соотносятся с образом главного героя.
Встречаются диалектные значения лексемы «руда» уже в отрицательной коннотации: «болотная ржавчина», «сажа», «замаранное пятно, грязь, чернота, особенно на теле, одежде, белье». Сниженный мотив пятна, загрязненности также обнаруживается в композиции образа Рудина: «Сколько раз вылетал соколом – и возвращался ползком, как улитка, у которой раздавили раковину!.. Где не бывал я, по каким дорогам не ходил!.. А дороги бывают грязные».
В метафорах и антитезах последнего монолога героя (высокий полет горделивой птицей – ползание по земле раздавленной улиткой) – история «агасферовских» скитаний Рудина – в итоге никчемных, пустых, постыдных.
В Словаре живого великорусского языка В.И. Даля «рудой» (южн.-зап.) – рыжий и рыже-бурый, темно- и жарко-красный. Данные значения встраиваются в ассоциативный лексико-семантический ряд: «кровавый», «горячий», «жаркий», «огненный», «пламенеющий», «знойный» и т.д. Эти цвето- и светообразы также играют важную роль в формировании мотива Агасфера и в поэтике романа в целом.
Первоначальной заявкой рудинской темы звучат некоторые «неспокойные» ноты в умиротворяющем пейзаже экспозиции: тихим летним утром вдруг пробегают волны «красноватой ряби» по «высокой зыбкой ржи».
Метафорическим предварением главного героя, проспекцией его отношений с Натальей служит также «диспут» Липиной и Лежнева об огне:
«– <…> Вам все огня нужно; а огонь никуда не годится. Вспыхнет, надымит и погаснет.
– И согреет <…>
– Да… и обожжет».
Сходный рисунок поведения – в предсмертных мгновениях Рудина на баррикаде: он лез, «карабкаясь кверху и помахивая и знаменем, и саблей». Тело бесславно погибло, но душа вознеслась в небо, как в фольклорных заклинаниях о «божьей коровке», ко Христу – истинному пастырю «божьих коровок», душ человеческих.
Подлинный духовный огонь представлен в романе в ретроспективном плане. Вдохновитель студенческой молодежи Покорский вселял в окружающих «огонь и силу» в отличие от Рудина, которого «никто не любил <…> Его иго носили». Покорский «Пылал полуночной лампадой / Перед святынею добра…» «Лампада» Рудина, по его собственному признанию в эпилоге романа, разбита.
Агасферовский грех Рудина в том, что, нарушая эти главные заповеди, из которых вырастают все другие христианские заветы, он отрекается таким образом от Христа, невольно принимает сторону противника Бога – сатаны, становясь его слепым орудием. Многие действия Рудина, помимо его собственной воли, уподобляются дьявольским козням. Так, холодным разъедающим рационализмом он разрушает юношескую любовь Лежнева, разъединяет влюбленных («диаболос» в переводе – «разделитель»); распоряжается чужими тайнами, «как своим добром»; чудовищно обходится с матерью; бессердечен в отношениях с Натальей, сам не зная, зачем и куда он ее увлек. Подобно врагу рода человеческого – охотнику за людскими душами, Рудин поневоле выступает как ловец «молодой, честной души». Смутный намек на бесовские проявления его натуры – в пигасовском уподоблении Рудина хвостатому существу: «…все судят о ваших достоинствах по хвосту». Наконец, Волынцев невольно заявляет об инфернальности сил, управляющих Рудиным: «С какого дьявола вам вздумалось ко мне с этим известием пожаловать?»
Неприкаянные странствования Рудина вызваны не столько внешними причинами, сколько его внутренним состоянием: безлюбовным отношением к жизни, за которое неизбежно наступает расплата. Неспособный к любви Рудин несет агасферовское наказание: «Маялся я много, скитался не одним телом – душой скитался». В эпилоге появляется мотив скитальческой судьбы как устрашающей кары, возмездия, таинственного проклятия Вечному жиду: «Едва успею я войти в определенное положение, остановиться на известной точке, судьба так и сопрет меня с нее долой… Я стал бояться ее – моей судьбы… Отчего все это?»
В финале романа отчетливо звучит покаянный мотив страдания и смирения: «Было что-то <…> грустно-покорное в его нагнутой фигуре». Герой все более и более сгибается под тяжестью своей судьбы: «нагнутый», потом «сгорбленный» и, наконец, склоненный пулей в последнем земном поклоне: «…повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился».
Апофеозом «огненной» темы становится «знойный полдень» на баррикаде в Париже, где происходит своего рода «самосожжение» Рудина. Он окружен настойчивым мельканием красного цвета: красный шарф, красное знамя – точно языками пламени. В Рудине не было внутреннего горения души и духа, и потому он испепелен огнем внешним. Сбылось пророчество в рудинском прощальном письме Наталье: «Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду».
Эта жертва – без веры, без любви – осталась напрасной и бесславной. По слову же Господа, только самоотверженная любовь к Богу и ближнему «есть больше всех всесожжений и жертв» (Мк. 12: 33).
Первый тургеневский роман явился в какой-то мере самопредсказанием. Писатель словно предчувствовал собственную скитальческую судьбу «на краю чужого гнезда», кончину на чужбине, во Франции, вдали от Родины, от своего родового имения – «дворянского гнезда». Незадолго до смерти он передал прощальный поклон родным местам через своего друга поэта Якова Петровича Полонского, будучи не в силах сам поклониться своим любимым «дому, саду <…> дубу, родине», которую ему уже не суждено было увидеть.
Алла Новикова-Строганова, доктор филологических наук
Источник: Русский Вестник