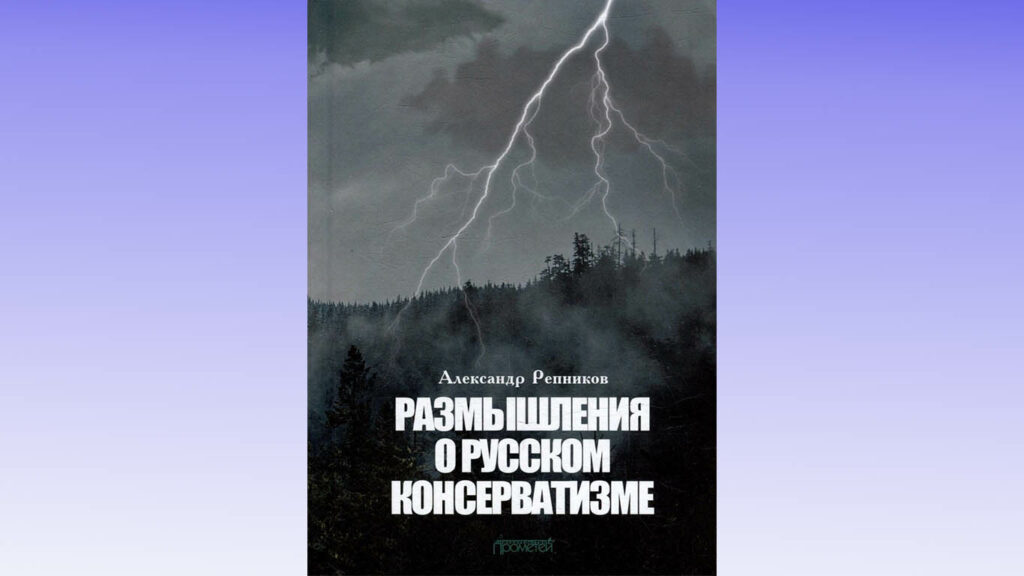
Русская идея.
Репников Александр. Размышления о русском консерватизме : статьи, рецензии, интервью, воспоминания, библиография. — М. : Прометей, 2024. — 1032 с. : ил.
Пожалуй, такой и должна быть книга о консерватизме. Большая, содержательная, стильная. В этом путешествии в историю и настоящее русского консерватизма только именной указатель занимает 60 страниц. А примечания и комментарии — вообще особый мир, полный интересных сюжетов. И обложка дополнительно интригует — то ли символика консервативного постоянства и вызовов современности, то ли образ русской жизни, то ли намёк на юнгеровский “уход в лес”.
В настоящем консерватизме предельно важен и внешний контур. Когда звучит слово “правый” в отношении, например, Столыпина или Шульгина, не хочется возражать, несмотря на спорный дореволюционный контекст. А вот когда на правизну претендовали Немцов с Гайдаром — было откровенно неудобно, и дело не в пресловутом “букетике кровей”. Всё-таки должна быть соответствующая стать. У Репникова и его героев она несомненна.
Есть известная проблема с поименованием философами любых обладателей философских дипломов в силу отсутствия термина — а-ля “литературовед”. У историков схожая трудность, и дело даже не в Геродоте или Карамзине, выглядывающих из глубины веков. Под одним именем мы знаем максимально различные типы. Есть историки-публицисты, историки-трибуны, историки-конспирологи, историки-философы, историки-писатели, наконец, не забываем авторов “фолк-хистори”. И “просто” историки в этом неоднозначном разнообразии порой для общества незаметны.
Когда прекрасный переводчик и успешный беллетрист, иноагент и террорист Григорий Чхартишвили заявил, что для написания своей “истории Российского государства” он прочитал несколько сотен книг, то вызвал закономерные усмешки. Ибо для серьёзной литературы такие объёмы обязательно-неизбежны на каждый век, а то и больше.
В исторической работе страница текста до половины может быть заполнена сносками, или же 40–50% книги — это примечания. Тяжело, но таков закон жанра. Поэтому книги, в которых нет подобного аппарата, — уже под вопросом. А ещё есть необходимость актуального знания — должны быть проработаны новые источники, документы, введённые в научный оборот, нельзя впадать в “библиографический нигилизм” (вспомним ещё полувековой давности эпизод из комедии “Большая перемена”, где главный герой пролетел мимо аспирантуры, упустив последнюю публикацию по своей теме).
Плох “знаток” всего и вся без точки опоры, готовый с лёгкостью говорить на любую тему. Но скверен и узкий специалист, одинокий упырь, сидящий в углу и высасывающий последние соки из объекта своего исследования, но не ведающий даже самых близких связей.
Всех этих “но” у Репникова нет, или же они совершенно незначительны. Есть необходимый баланс, который идёт от специализации, но ей не ограничивается. Проработав тему, инструментарий, накачав интеллектуальную “мышцу”, можно и нужно выходить на обобщения, расширять поле деятельности. Специализация — печка, от которой начинается “танец” историка. Но это оптика, а не шоры.
Сам Александр Витальевич на представлении тома обмолвился: “Книга помогла осознать, что я историк”. Удивительно, не правда ли? Доктор наук с многолетним стажем профессиональной работы демонстрирует осторожность, занимается самоанализом. В то время как хватает откровенных неучей, даже не сомневающихся в своём праве на высказывание.
“Размышления о русском консерватизме” обращены к самой широкой аудитории. Это синтез жанров, взаимосвязь научного, общественного, личного; мастерская научная публицистика, полноценный отчёт о годах, проведённых не впустую, и мемуары.
“Эта работа посвящена феномену русского консерватизма середины XIX — начала ХХ века. Вместе с тем вошедшие в первую часть книги тексты охватывают больший хронологический период, связывая дореволюционное прошлое с событиями советской истории и современности. Вторая часть содержит блок из рецензий на работы по славянофильской и консервативной тематике. Третья часть представляет интервью автора за разные годы. В четвёртой части автор книги рассказывает об опыте научного сотрудничества с учёными и преподавателями МГУ, РГГУ, МПУ, МПГУ, ИРИ РАН и других вузов и научных институтов.
Среди тех, с кем общался автор и к кому он обращает слова благодарности, есть как ныне живущие, так и ушедшие из жизни историки — представители разных научных школ. Тема научного сотрудничества проходит красной нитью через всю книгу. Автор рассказывает о деятельности сообществ, с которыми ему довелось сотрудничать в 1994–2023 годах. Комментарии, примечания и приложения к книге содержат большой массив информации, включая сведения о современных исследователях, направлениях и научных школах”.
Основные герои Репникова те же — Константин Леонтьев, Лев Тихомиров, Василий Шульгин, Михаил Меньшиков. При всём различии их объединяет способность взаимодействовать с настоящим, попытка работы с фигурой будущего, к чему зачастую были равнодушны иные деятели и даже мыслители правого толка.
Репников — “собеседник” больших людей прошлого, но он же внимательный исследователь. “Честный”, — сделал комплимент коллега-левак. Сиречь не замалчивает неудобные эпизоды из биографий, не устраивает бездумную апологию. В самом деле, интересен человек в его своеобразии, противоречиях, трансформациях. Поэтому и идеи, подходы могут быть куда более адекватны в веках. Негоже уходить в мелкотравчатость, “измерять слона линейкой”. Глобальные события и выдающиеся люди достойны соответствующего освоения, а не бирок и этикеток.
Парадокс русского консерватизма: он терпит поражение за поражением, но воскресает, как птица Феникс, и вновь востребован. (Глубинная суть консерватизма отвечает здоровому человеческому выбору?) И коль скоро в науке в настоящий момент можно констатировать если не кризис, но охлаждение интереса к теме, то в обществе и политикуме запрос по-прежнему налицо. Фигура консерватизма привлекает правых, левых, советских патриотов, кремлёвских идеологов, третьепутистов и т. д. (не говоря уже про востребованный мировой формат “четырёхобразного деления идеологических ниш”, в котором правые и левые консерваторы уже занимают половину). С другой стороны, и оппоненты с удовольствием используют неразличение и демонизируют консервативные проекты через “экстремистские” ярлыки.
Поэтому и в книге много ожидаемого и неожиданного, есть весомые ответы и болезненно острые вопросы. Консервативная доктрина государства и взаимоотношение имперского и национального принципов; социальная мобильность и свобода слова; Александр III и Первая мировая война; почему Данилевскому ближе Шпенглер, а не Соловьёв, и в чём заключаются пророчества Константина Леонтьева; как черносотенное “Русское знамя” нападает на Столыпина за “зоологический национализм”(!), а Шульгин шокирует неомонархистов космополитическими выводами; как девальвация национальных героев мешает патриотической мобилизации общества, а расчеловечивание становится следствием забвения гуманитарных наук.
При всей фундаментальности затронутых тем и проблем у “Размышлений” есть важное человеческое измерение. Фактура здесь далеко не всё — важны интонация, тонкости, нюансы. Вопреки стереотипам настоящий консерватизм — это широта взгляда, однако лишённая розовых очков. И историку трудно быть оптимистом. Тем более в поступи нового века, с его потоком информации, диктатом меньшинств, культурой отмены и соблазном искусственного интеллекта. Ещё один парадокс: именно пессимизм консерваторов становится редутом сражения за человеческое, когда прогрессисты закономерно промаршировали к постчеловеческому будущему.
Книга достойна госпремии, но вряд ли получит даже диплом. Однако для автора это явно не беда, не для того писалась. И если под звучной формулой “восстание против современного мира” понимать не только некое радикальное действо, но и содержательное дело, то “Размышления о консерватизме” — это оно. Читаем, погружаемся в примечания, идём по ссылкам. Размышляем вместе с Александром Репниковым.
Даниил Торопов
Источник: Завтра
