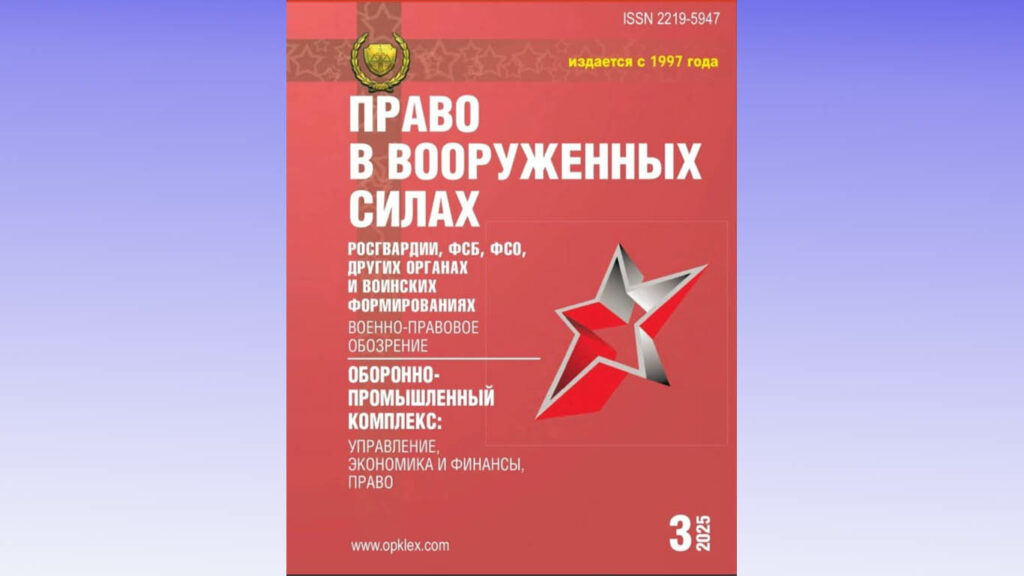
Статья Сергея Васильевича Иванеева «К проблеме правового анализа методологии изучения ислама в условиях обеспечения государством принципа секуляризма и религиозной нейтральности системы военного образования в России».
В статье рассмотрена проблема правового анализа методологии изучения ислама в условиях обеспечения государством принципа секуляризма и религиозной нейтральности системы военного образования. Подчеркнута необходимость формирования правового механизма реализации свободы совести в военной организации государства, имеющего целью обеспечение безопасности в условиях многонационального и многоконфессионального государства. Предложена модель развития системы военного образования на основе светской культуры и обновленной концепции гуманизма. В указанном контексте развитие военного образования в современных условиях как одного из важнейших средств укрепления национальной безопасности Российского государства должно базироваться на принципах светскости, свободы совести, приоритета прав человека.
В зале пленарных заседаний Дагестанского государственного университета проходит III Всероссийский исламоведческий форум «Ислам и исламоведение в современной России», посвященный актуальным проблемам и перспективам развития религиоведческого и теологического образования в современной России. Автор статьи в качестве члена Общественного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН России) готовится к выступлению с докладом на тему: «Статус человека как фактор важнейшей разделительной черты между светской и религиозной культурами: роль светского и теологического образования», в котором приводит вывод о том, что чем более развитым становится общество на основе принципов светской культуры, тем более завершенной – в экзистенциальном и духовном смысле – оказывается светская система образования.
В зале присутствует огромное количество дагестанских профессоров, так как форум привлек внимание ученых к проблемам современного религиоведческого и теологического образования в России и мире, а также способствует поддержанию профессиональных связей и научному взаимодействию между исследователями из России и Ближнего Зарубежья.
В это время один из участников форума говорит: … «Мне как мусульманину и дагестанцу не нравится, что в Москве приняли поправки в Конституцию России, где русских сделали государствообразующим народом, а нас, дагестанцев и другие народы, поставили на второе место…».
Автор настоящей статьи обратился к организатору конференции, уважаемому советскому и российскому исламоведу, декану факультета психологии и философии ДГУ, профессору Яхьяеву Мухтару Яхьяевичу с просьбой дать ему возможность прокомментировать высказанный антиконституционный пассаж.
«Пожалуйста, но только за счет времени своего основного пятнадцатиминутного доклада», – ответил Мухтар Яхьяевич. «В таком случае я десять минут оставляю на доклад, а пять минут я потрачу, чтобы разъяснить этой квалифицированной аудитории Заключение КС РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З[1], где говорится, что положение о русском языке как языке государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация. Оно не умаляет достоинства других народов, не может рассматриваться как несовместимое с положениями Конституции Российской Федерации о многонациональном народе Российской Федерации, о равенстве прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от национальности, о равноправии и самоопределении народов», – сказал автор статьи.
Приведенный автором эпизод в Дагестане подчеркивает актуальность заявленной темы статьи, так как в Вооруженных Силах Российской Федерации в настоящее время среди старших и высших офицеров и в научно-экспертном сообществе, в частности, немало людей с полным незнанием особенностей реализации конституционного права, а также истинной сущности и целей современного модернизма ислама, которые предпочитают оправдываться ссылками на толерантность и рассуждать с безответственной демагогией на тему «прав человека». Таких невежественных «попутчиков» В.И. Ленин называл «полезными идиотами». Подобные настроения направлены на укрепление позиций ислама в светском обществе, его защиту от научной критики и неверующих граждан.
Именно поэтому автор был вынужден пять лет назад написать открытое письмо секретарю Совета Безопасности Российской Федерации Н. Патрушеву, в котором просил принять меры, направленные на обеспечение общественной безопасности, и отмечал необходимость создания в Минобороны России системы общественного контроля за соблюдением принципов светскости государства[2].
Актуальность обсуждения правового анализа методологии изучения ислама и связи светского и религиозного в системе военного образования связана с тем, что, по словам востоковеда А. Малашенко, «несовпадение исламского и российского гражданского векторов идентичности и слабость второго относительно первого способствуют цивилизационному дрейфу Северного Кавказа от России»[3].
Методология изучения ислама в системе военного образования напомнила о себе после того, как исламистские группировки, контролировавшие провинцию Идлиб, во главе с ХТШ (признана в Российской Федерации террористической и запрещена) начали наступление в Сирии 27 ноября, а 8 декабря 2024 г. вошли в Дамаск и объявили о захвате власти. Президент Сирии Башар Асад покинул пост главы государства, который он занимал с 2000 г., и уехал в Россию. До 1 марта 2025 г. в стране действует переходное правительство.
Зададимся резонным вопросом: каким образом в Минобороны России организовать работу по изучению ислама с позиции научного миропонимания?
Отвечаем: только через рассмотрение ислама как системы монотеистического культа, понимая, что, как и все религии, ислам не упал с неба, он возник как идеологическое средство феодализированных кругов мекканско-мединской части, заинтересованных в главенстве над родоплеменными арабами. В силу господствующего уровня обыденного сознания идеологическим средством объединения арабов стало религиозное знамя под эгидой веры в единого «бога арабов» – Аллаха. Становление монотеистического ислама было долговременным процессом синкретизации традиционных политеистических культов, в результате которого образовалась система религиозных воззрений во главе с верховным абсолютом – Аллахом.
Принципы мусульманской морали, сформировавшиеся в условиях становления государственно-политической структуры у арабов, сохранили, к сожалению, элементы средневековой жестокости и ограничения свободы воли личности, что до сих пор составляет прецедент идеологического разногласия между передовыми мыслителями-гуманистами и теми кругами мусульманских ортодоксов, которые стоят на позициях защиты догматического богословия, что говорит о срочной необходимости формирования мировоззрения граждан XXI в., основанного на ценностях гуманизма и светскости, декларированных ЮНЕСКО, в целях содействия структурированию и умножению светского сектора гражданского общества.
Нельзя забывать, что один из авторов научной монографии «Молодежь о религии и религиозном экстремизме» – профессор С.Ш. Муслимов провел в январе – мае 2013 г. социологическое исследование среди молодежи Дагестана по теме «Идеологические основы профилактики экстремизма и терроризма», в результате которого выяснилось, что более 40 % опрошенных однозначно считают ислам истинной и последней мировой религией, которую должны принять все народы мира добровольно или с принуждением.
С точки зрения известного исламоведа, профессора Юрия Григорьевича Петраша, «ислам – это религиозно-монотеистическая система со своей догматикой, выражающей иррациональное миропонимание посредством веры в Аллаха как сверхъестественной верховной силы»[4].
Автору статьи как правоведу импонирует сам стиль содержания книг профессора Ю.Г. Петраша. Он выдержан в спокойной и дружелюбной форме. Читатель сразу чувствует, что Ю.Г. Петраш не имеет ничего общего с хулиганствующим разоблачительством ислама. Читателю честно говорится, что он не услышит из проповедей духовенства. Но делается это с исключительным тактом, не «ковыряя пальцем» в душах верующих, уважая их религиозные чувства. Он как бы говорит читателю: вы, конечно, имеете юридическое право верить в сверхъестественные силы, но между правом и целесообразностью часто бывает дистанция огромного размера. Он апеллирует к праву и разуму самих мусульман: по Конституции России вы имеете полное право определять свое отношение к исламу, но посмотрите на учение и практику этой религии и удостоверьтесь, что истинный прогресс народов, традиционно исповедующих ислам, несовместим со средневековыми взглядами и культурно-бытовыми традициями ислама.
На взгляд автора настоящей статьи, сегодня, после событий в Сирии, необходимо совершенствование самой методики научного анализа ислама и здесь нельзя не согласиться с уважаемым профессором Ю.Г. Петрашом, что «все еще живучее описательство вредит развитию исламоведения и всякие его рецидивы нетерпимы. Теперь исламоведение взошло на такой уровень, когда необходимо выполнение двух важнейших требований: анализа ислама вглубь и выявления гносеологической структуры самого исламоведения как специфической области научного знания. Первое требование связано с дальнейшим развитием актуальной проблематики, с поисками новых аспектов исследования в истории, теории и практике ислама. Второе требование обязывает исследовать структуру самого гносеологического аппарата и познавательной системы ислама в целом, то есть нужно выявить и знать специфику познавательных средств, а также суметь распорядиться ими в интересах изучения и преодоления ислама»[5].
Безусловно, что военное образование с момента зарождения постоянно привлекает к себе внимание ученых и практиков, представителей разных отраслей знаний, социальных сфер и государственных ведомств и многим видится в качестве одного из управляемых факторов, с помощью которого можно влиять на будущее армии и государства в целом, т. е. задавать определенное направление развитию общества, глобальным процессам, цивилизации, военному строительству[6].
Немало важных научных направлений, таких как образовательная политика Минобороны России, внутренняя социальная жизнь в системе военного образования, взаимодействие военного образования с общегражданским образованием, семьей, религией, национальными культурами, остаются все еще недостаточно исследованными.
Ученые и практики отмечают, что современная уголовная политика не всегда отличается четкой продуманностью задач и целей и не в полной мере учитывает тенденции современного развития общества[7]. До настоящего времени существуют проблемы, которые позволяют сделать вывод о недостаточном соблюдении конституционных основ в нормах уголовного закона, что не может не отразиться на уголовной политике.
Одна из проблем заключается в том, что ст. 148 УК РФ защищает права верующих граждан и предусматривает наказание за оскорбление их религиозных чувств, но права неверующих не охраняются уголовным законом, что противоречит ст. 28 Конституции Российской Федерации, тем более что ст. 129 УК РФ, которая предусматривала ответственность за оскорбление любого гражданина, была декриминализована, оставив вне уголовно-правовой охраны важную сферу общественных отношений, обеспечивающих уважение чести и достоинства личности[8].
В свое время выдающийся конституционалист О.Е. Кутафин вполне справедливо отмечал, что «возрастающее влияние церкви в нашей стране чувствуется везде – и в системе образования, и в вооруженных силах, и в пенитенциарной системе. Надо сказать, что сегодня православие в нашей стране зачастую воспринимается всего лишь как замена прежней коммунистической идеологии. Оно пытается занять пустующую нишу борьбы за справедливость в умах людей, что едва ли служит делу обеспечения идеологического разнообразия в нашей стране» [9].
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ устанавливает «светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Закон подчеркивает, что обучающимся предоставляются академические права на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ закрепляет, что государство обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а религиозное объединение не выполняет функций органов государственной власти, государственных учреждений и органов местного самоуправления. Закрепление светскости образования имеет место также в ряде подзаконных актов.
В указанном контексте правовое содержание светскости образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях России предполагает: обеспечение конституционной свободы совести и свободы вероисповедания; отделение перед законом мировоззренческих (религиозных, антирелигиозных, иных) объединений от государственной и муниципальной системы образования и их равенство; недопустимость в государственных и муниципальных образовательных учреждениях установления какого-либо мировоззрения (религиозного, антирелигиозного, иного) в качестве обязательного или официального; запрет мировоззренческим и иным общественным объединениям вмешиваться в управление государственными или муниципальными образовательными учреждениями; запрет совмещать образовательный процесс с принуждением в обучении конкретному мировоззрению (в том числе религии, атеизму или религиозной культуре), а равно с принуждением к отказу от мировоззрения; недопустимость проведения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях обязательных религиозных обрядов (за исключением свободного времени).
Сегодня религиозная культура активно представлена в Вооруженных Силах Российской Федерации, и она действительно исторически «старше» светской, так как она выражает и моделирует действительность феодальной организации социума, основанной не только на идее служения конкретному лицу (вассал и сеньор, господин и слуга, помещик и крепостной), но и на межличностных отношениях. С этих позиций религиозная культура и соответствующее ей образование оказывались вполне адекватным феноменом в том плане, что соответствовали реальным, объективным общественным отношениям. И хотя идеология и ценности этой культуры были трансцендентными, но сама политическая, экономическая и социальная организация религиозной жизни и культуры моделировала феодальное общество однозначно и объективно.
Кризис современного конституционализма, как ранее подчеркивали многие исследователи, обусловлен тем, что в настоящее время значительно возрастает количество угроз правам человека. Примером этому является нарушение конституционного принципа светского государства и равноправия религиозных конфессий. Данный принцип гарантирован ст. 14 Конституции Российской Федерации.
А кроме того, появились симптомы, свидетельствующие об угрозе внутренней безопасности государства, так как в последнее время наша жизнь омрачилась чередой страшных событий: беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие вечером 29 октября 2023 г. на почве исламского антисемитизма; террористический акт в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 г.; двойной захват и убийство заключенными исламистами сотрудников в СИЗО; скоординированное нападение на православные церкви и синагоги, а также на пост ДПС 23 июня 2024 г. в Махачкале и Дербенте.
И в данном случае на память приходят слова ведущего российского специалиста по проблемам ислама А. Малашенко о том, что «нет российской политики на Кавказе, а то, что есть, – это безобразие полное, нет национальной политики, нет религиозной политики. Государство, власть требуют от религии, от ислама только одного – лояльности»[10].
К сожалению, антисемитские инциденты участились во всем мире по частоте и интенсивности во время войны в Газе, и многие считали их волной репрессий в ответ на конфликт. И в этом аспекте весьма интересной для нас, военных юристов, является статья «Крестовый поход евреев» Ярона Лондона, который опубликовал ее в газете «Йедиот»: «Я не хочу сказать, что каждый верующий человек, Боже упаси, – враг демократии. Но империалистическое стремление, закодированное в любой религии, в нашем случае пробудилось от сна и угрожает демократическому устройству общества… Религия себя ведет хорошо, только когда ее удается обуздать, и тогда ее лицо приобретает благообразное выражение. Во имя мира светская часть населения пошла на компромиссы с религией, которые сейчас оказались порочными. Религия совсем разбушевалась. Пришло время оборонительного атеизма»[11].
Одной из самых сложных проблем в XXI в., которая стоит перед научно-экспертным сообществом, является конфликтогенный потенциал в этноконфессиональной сфере, который ярко проявляется в связи с проблемами реализации свободы совести во всем мире[12], когда формы политической активности, возникающие на религиозной основе, находятся в центре общественного внимания, особенно в многонациональном и мноконфессиональном государстве.
В условиях формирования единого планетарного пространства и технологической революции, сопровождающихся усилением планетарных рисков, реализация принципов свободы совести и светскости государств является важным условием преодоления этноконфессиональных разделений и укрепления международного сотрудничества для построения гуманистического бесконфликтного глобального общества.
Как справедливо заметил Р.Я. Эмануилов: «В силу целого ряда субъективных и объективных причин именно мусульманская религия чаще всего рассматривается сегодня в контексте проблем экстремизма и терроризма в современном мире, так же, как и терроризм зачастую помещается в контекст ислама»[13].
Профессор Л.Р. Сюкияйнен отмечает, что «нынешний миропорядок, освященный современным международным правом, прямо противоположен принципам международных отношений в исламе»[14]. При этом он делает вывод, что глобализация – отчетливо светское явление, и на этом основании прогнозирует «более резкий ответ ислама на процесс глобализации»[15].
Типичным примером такого ответа является интервью помощника председателя Правительства Российской Федерации, экс-мэра Грозного и экс-премьера Чечни Муслима Хучиева, который предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Об этом он заявил в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета. «Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» – задался вопросом Хучиев.
Также ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов по вопросу законопроекта о запрете ношения в школах религиозной одежды, внесенного на рассмотрение заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владиславом Даванковым, пообещал «доходчиво объяснить» господину Даванкову и «остальным», что такое религиозные традиционные ценности.
Невзирая на позицию депутата Адама Делимханова, руководство Владимирской области «кажется, не дрогнуло в своей решимости запретить религиозную одежду в учебных заведениях, несмотря на мощное давление мусульманских организаций и политических представителей республик Северного Кавказа. Все вроде бы остались при своих, уверенные в собственной правоте»[16].
Чиновники Владимирской области справедливо напомнили о светском характере Российской Федерации и давно принятых соответствующих правовых нормах на федеральном уровне. И такие требования Минобрнауки России установило письмом от 28 марта 2013 г., где говорится об «устранении признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися». Затем появилось определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 10 июля 2013 г., согласно которому запрет на ношение религиозной одежды в государственных и муниципальных школах вводится «во исполнение требований федерального законодательства об обеспечении государством принципа секуляризма и религиозной нейтральности системы государственного образования в целях исключения конфликта прав и интересов представителей различных религиозных конфессий, а также уважения плюрализма и свободы других лиц, не исповедующих никакой религии, или атеистов»[17].
Указанное выше определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 10 июля 2013 г. появилось не на пустом месте. Причиной стал прецедент с недопущением школьниц в хиджабах в одну из школ Ставропольского края. Верховному Суду пришлось рассматривать и другое подобное дело и решить его 11 февраля 2015 г. аналогичным образом: отклонена жалоба родителей школьниц из Мордовии на запрет ношения мусульманского платка в школе[18]. Сам казус произошел в 2014 г., и в то же время подобный конфликт случился в московском мединституте имени Пирогова, ректор которого издал приказ о том, что для ношения студентами «недопустимы: одежда, указывающая на принадлежность к той или иной национальности или религии (в том числе национальные головные уборы)». В отношении студенток пришли к компромиссу: им разрешили носить медицинскую шапочку и платок или шарф, закрывающие шею.
Однако в республиках Северного Кавказа исполнение федерального законодательства имеет свою «специфику»; например, в марте 2017 г. парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. При этом в пресс-службе регионального законодательного органа подчеркнули, что эта норма не противоречит ст. 38 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Если изучить многочисленные фотосессии из школ Чечни и других республик Северного Кавказа, то можно обнаружить, что наряду с ношением традиционной национальной косынки некоторые школьницы и студентки посещают занятия в хиджабах.
«Запрет хиджаба во Владимирской области – это грубое нарушение Конституции… Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях – абсолютная провокация. Если кому-то во Владимирской области непонятны эти простые истины, то мы доходчиво объясним, что такое религиозные традиции и почему их нельзя бесцеремонно запрещать», – написал депутат Госдумы Делимханов.
С критикой выступил и депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев, оскорбивший чиновников правительства Владимирской области, которые ввели запрет на хиджабы и другую религиозную одежду в школах своего региона.
Указанные эпизоды свидетельствуют об огромном влиянии религиозной морали на поведение и высказывания политиков-мусульман по вопросу реагирования на законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе частично или полностью скрывающей лицо. Об истоках этого явления напоминает заявление тогдашнего имам-хатыба Московской соборной мечети Равиля Гайнутдина (ныне шейха, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации), сделанное им еще в далеком 1991 г.:
«В российском республиканском парламенте есть депутаты-мусульмане. Благодаря им мы были в курсе всех решений, принимаемых Верховным советом и президентом России»[19].
Подчеркнем, что в условиях небывалых социальных трансформаций системе образования принадлежит важная роль в обеспечении безопасности в условиях многонационального и многоконфессионального государства. Именно в рамках системы образования человек должен получить современные знания, навыки, компетенции и опыт взаимодействий в реальном мире, где каждый будет иметь возможность осознать себя равноправным субъектом культуры и общества.
Геополитические вызовы требуют от нас укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, где необходимость увеличения исследований значения свободы совести и светскости государства может сыграть роль мощного фактора противодействия проявлению в условиях глобализации конфликтогенного потенциала ислама[20].
Таким образом, развитие военного образования в современных условиях как одного из важнейших средств укрепления национальной безопасности Российского государства выдвигает необходимость формирования правового механизма реализации свободы совести в военной организации государства, имеющего целью обеспечение безопасности в условиях многонационального и многоконфессионального государства. Это возможно через распределение открывающихся новых знаний, связанных с интересами людей, с общественными отношениями в горизонте времени. Часть новых знаний и социального опыта попадает в настоящее, выступая культурной и предметной средой в практике для современников, а другая часть переходит в сферу идеала, приобретая значение обновленной регулятивной нормы, целей и задач общества[21].
И данные особенности образования должны выявить и систематизировать социальная философия и военно-правовая наука, открывая тем самым и инновационный потенциал военного образования, его роль в развитии общества и его культуры, а значит – и в развитии личности. В связи с этим весьма актуальны слова К. Маркса о том, что «все юридическое в основе своей имеет политическую природу»[22].
С.В. Иванеев, кандидат юридических наук, научный сотрудник Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, президент некоммерческой организации «Ассоциация граждан XXI века за развитие светскости и гуманизма»
Библиографический список
- Военное право: учебник / А. В. Кудашкин, В. М. Корякин, В. В. Кудашкин [и др.]. – Москва: Институт государства и права РАН, 2021. – 968 с. – EDN IZIVOG.
- Малашенко А.В. Религию невозможно отделить от политики. Журнал «Отечественные записки», 2013/1.
- Бурьянов С.А. Международное признание права на свободу совести и проблемы его имплементации в Российской Федерации в условиях современных глобальных процессов: Монография. М.: Полиграф сервис, 2020. 624 с.
- Гравина А.А. Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе // Журнал российского права. 2016. N 11. С. 95 106; Побегайло Э.Ф. Зигзаги и парадоксы современной Российской уголовной политики // Публичное и частное право. 2012. Вып. III (XV). С. 129-137.
- Звягельская И.Д. Религиозный фактор в палестино-израильском конфликте // Религия и конфликт / Московский центр Карнеги. Москва, 2007. С. 153-174.
- Иванеев, С. В. Правовая культура военнослужащих как фактор противодействия проявлению в условиях глобализации конфликтогенного потенциала ислама / С. В. Иванеев // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. – 2017. – № 10(243). – С. 115-124. – EDN ZHAZFR.
- Иванеев, С. В. Образование как самосознание культуры в пространстве философских наук / С. В. Иванеев // Вестник Челябинского государственного университета. – 2016. – № 5(387). – С. 55-62. – EDN WHPTDX.
- Кадников Н.Г. К вопросу о конституционных основах современной уголовной политики // Журнал российского права, N 6, июнь 2023 г.) С. 89-96.
- Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М.: Норма, 2008. С. 258.
- Малашенко А.В. Северный Кавказ: зарубежный субъект Российской Федерации? ИА IslamNews
- Муслимов С.Ш., Миримова А.А. Молодежь о религии и религиозном экстремизме. [Текст] – Махачкала: типография (ИП Магомедалиев С.А.), 2014. – 141 с.
- Мельников А.Л. Владимирская область запнулась на слове «хиджаб» / Факты и комментарии / Независимая газета. 05.11.2024 г.
- Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, изд. второе, том первый. М., 1954. С. 635.
- Петраш Ю.Г. «Ислам. Происхождение, вероучение, современность» / Ред. В.А. Коваленко; Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации. – Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД, 2000. — 340 с.
- Петраш, Ю. Г. Познание ислама: проблемы научно-философской методологии / Ю. Г. Петраш; Ю. Г. Петраш; [Современная гуманитарная акад.]. – Москва: Изд-во Современного гуманитарного ун-та, 2011. – 297 с. – ISBN 978-5-8323-0785-5. – EDN QXCDTV.
- Сюкияйнен Л.Р. Глобализация и мусульманский мир: оценка современной исламской правовой мысли. Российская акад. наук, Ин-т востоковедения. М.: Марджани, 2012. 87 с.
- Чубуков, А. Ф. Современное военное образование России: характерные черты, тенденции и закономерности развития / А. Ф. Чубуков // Вестник Башкирского университета. – 2009. – Т. 14, № 4. – С. 1557-1561. – EDN KZFMJD.
- Эмануилов Р.Я., Яшлавский А.Э. Террор во имя веры: религия и политическое насилие. – М.: Мосты культуры, 2011. – 344 с.
Сноски
[1] Заключение Конституционного Суда Российской Федерации «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации ″О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти″, а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» от 16 марта 2020 г. № 1-З.
[2] Общественники написали письмо в Совбез России с просьбой сделать армию светской. URL: https://www.gosnews.ru/news/obshchestvo/obshchestvenniki_napisali_pismo_v_sovbez_rf_s_prosboy_sdelat_armiyu_svetskoy (дата обращения: 15.01.2025).
[3] Малашенко А.В. Северный Кавказ: зарубежный субъект Российской Федерации? URL: http://carnegie.ru/2011/11/22/ (дата обращения: 15.01.2025).
[4] Петраш Ю.Г. Ислам. Происхождение, вероучение, современность.
[5] Петраш Ю.Г. Познание ислама: проблемы научно-философской методологии. М., 2011. 297 с.
[6] Чубуков А.Ф. Современное военное образование России: характерные черты, тенденции и закономерности развития // Вестн. Башкир. ун-та. 2009. Т. 14. № 4. С. 1557 – 1561.
[7] Гравина А.А. Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе // Журн. рос. права. 2016. № 11. С. 95 – 106; Побегайло Э.Ф. Зигзаги и парадоксы современной российской уголовной политики // Публич. и част. право. 2012. Вып. 3. С. 129 – 137.
[8] Кадников Н.Г. К вопросу о конституционных основах современной уголовной политики // Журн. рос. права. 2023. № 6. С. 89 – 96.
[9] Кутафин О.Е. Российский конституционализм. М., 2008. С. 258.
[10] Малашенко А.В. Религию невозможно отделить от политики // Отечеств. записки. 2013. № 1.
[11] Звягельская И.Д. Религиозный фактор в палестино-израильском конфликте // Религия и конфликт / Моск. центр Карнеги. М., 2007. С. 153 – 174.
[12] Бурьянов С.А. Международное признание права на свободу совести и проблемы его имплементации в Российской Федерации в условиях современных глобальных процессов: моногр. М., 2020. 624 с.
[13] Эмануилов Р.Я., Яшлавский А.Э. Террор во имя веры: религия и политическое насилие. М., 2011. 344 с.
[14] Сюкияйнен Л.Р. Глобализация и мусульманский мир: оценка современной исламской правовой мысли / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. М., 2012. 87 с.
[15] Там же.
[16] Мельников А.Л. Владимирская область запнулась на слове «хиджаб» // Факты и комментарии. 2024. 5 нояб.
[17] Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации «Об отказе в признании недействующими подпунктов 2 и 3 пункта 9 Основных требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Ставропольского края, утвержденных. постановлением правительства Ставропольского края от 31 октября 2012 г. № 422-п» от 10 июля 2013 г. № 19-АПГ13-2.
[18] Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда Республики Мордовия от 24.10.2014, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим подпункта 3 пункта 9 Типовых требований к школьной одежде и внешнему виду обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Республики Мордовия и муниципальных общеобразовательных организациях Республики Мордовия, утвержденных постановлением Правительства Республики Мордовия от 12.05.2014 № 208» от 11 февраля 2015 г. № 15-АПГ14-11.
[19] Наука и религия. 1991. № 10.
[20] Иванеев С.В. Правовая культура военнослужащих как фактор противодействия проявлению в условиях глобализации конфликтогенного потенциала ислама // Право в Вооруженных Силах. 2017. № 10. С. 115 – 124.
[21] Иванеев С.В. Образование как самосознание культуры в пространстве философских наук // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2016. № 5. С. 55 – 62.
[22] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. второе. М., 1954. Т. 1. С. 635.
