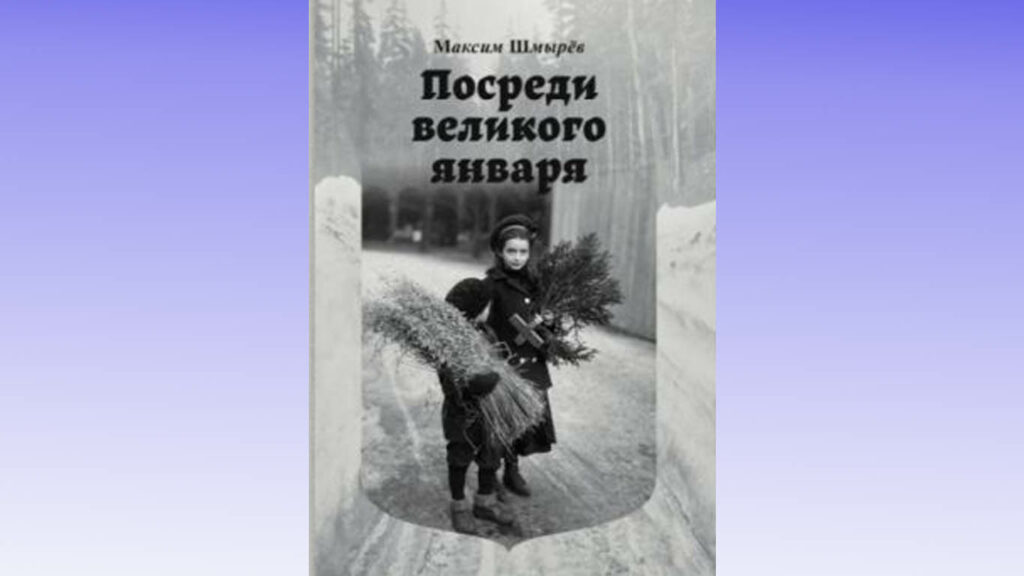
О книге Максима Шмырёва «Посреди великого января» (М.: Тотенбург, 2025. – 130 с.).
«Много-много лет назад, на заре нашей юности, когда солнце показывалось алым краем из-за горизонта, воздух был свеж, снег хрусток, а летние травы шумели ветром, что веял от заснеженных гор и таинственных островов в далях Океана…», – проза Максима Шмырёва одновременно похожа на тексты Александра Грина, Владислава Крапивина и Василия Аксёнова (если бы последний не был пижоном). И, тем не менее, есть свой стиль, изюминка, сущность. Шмырёв – изысканный лирик. Его слог – стальной и нежный одновременно. Сейчас в литературной моде грубые выражения, приправленные пацанским пафосом. Шмырёв как бы в стороне, его невозможно спутать ни с кем иным. Для него литература – не только поле битвы, но и колыбель благорастворения. Выпускник Литературного вуза, Шмырёв играет словом, балансируя на грани тончайшей иронии. Эта ирония столь тонка, что кажется вуалью. При этом он предельно серьёзен. Так возникает стилевая феерия. Итак, передо мной – сборник «Посреди великого января».
Шмырёв много и с удовольствием пишет о девяностых. Они для него не «святые» и не «провальные». О, даже не «лихие». Это – время выбора, политических игр – часто кровавых, борьбы и дружбы, красивых девушек и рок-музыки. Обычно об этом десятилетии пишут тенденциозно – и неважно, с какой стороны баррикад колотятся авторы, здесь же – особая аура: «Бывало, идёшь по московской улице начала девяностых, шурша листвой, её не убирают дворники, дворники будто сами потянулись за перелётными птицами на мётлах, воздух пахнет дымом дешёвых американских сигарет и ещё тлеющими, не разгоревшимися кострами гражданской войны...».
Это – узнаваемо. Тот, кто жил в те годы, вспоминают всё до мельчайших подробностей. Что же далее? «И вдруг видишь удивительно яркую клумбу, с цветами всех оттенков, на которые будто бы сели не менее яркие радужные бабочки. Подходишь ближе и понимаешь: это не клумба, а лоток с новейшими, только что выпущенными книгами», – в кроваво-красочных девяностых был книжный бум. Как по мановению волшебной палочки явились лотки – стало издаваться всё, массово, кучно – и умные труды академиков, и броская западная фантастика, и Михаил Булгаков, и Барбара Картленд, и Шарль Бодлер, и Роберт Желязны. Шедевры и шлак, для ума и для развлечения. Обложки – сияли. Иной раз они были образцами безвкусицы. «Нынешние обложки скучноваты и респектабельны, как господин в сером пальто, присевший отдохнуть на скамейке в парке», – подытоживает Шмырёв.
Читая, кажется, что он – человек из той параллельной реальности, где случилась другая Россия. Перестав быть советской, она не попала в жернова криминала 1990-х и нечистоплотного гламура 2000-х, а сделалась чем-то, вроде Большой Русской Мечты, о которой постоянно говорит Александр Проханов. Но эта грёза словно бы затерялась в московских переулках пыльного лета: «Мне дорог тот ветер. Он раздувал паруса свободы, он обещал нечто грядущее — не то, что последующие сквознячки. Когда бьют колокола, я слышу его дыхание».
Вселенская грусть по не случившемуся: «Это время самой тщетной и самой дерзкой надежды». В принципе, Шмырёв даёт прямой ответ на вопрос: «Почему мы проиграли наши девяностые?» Потому что думали о книгах, пока те, с простецко-хитрыми лицами, набивали карманы и брали всё, что можно. И особенно то, что – нельзя. Мы были идеалистами, нам нравилось ходить с флагами и утверждать свой стиль – романтическое милитари: «Они [знамёна – Г.И.] парили над головами, перелетали туда-сюда над головами людей, перекрёстно опыляя их идеями, и какие только идеи не взращивали в головах их алые, чёрные, жёлтые и белые крылья! Эти люди хотели не власти, нет, власть была где-то сбоку припёку, идеи вели в иные пространства». Люди со знамёнами не хотели власти, и случилось то, что должно было случиться – место флагов заняли денежные знаки, а мы оказались …сбоку припёка.
Шмырёв воскрешает в памяти людей 1990-х, например, знаменитую Тимофеевну, бабульку, торговавшую патриотической прессой в самом центре Москвы, недалеко от Кремля: «Я никогда не видел, как она приходит или уходит от музея Ленина: просто появлялась утром и исчезала вечером. Можно было представить, что тайные патриотические силы поднимают её, вместе со всем товаром, наружу из реликтового бункера, а вечером, когда становится тихо и закат окрашивает облака в цвета национальной революции, опускают обратно — в потаённое подземелье, соединённое туннелями с Землёй Королевы Мод, с подземными царствами: Золотым, Серебряным и Медным. В их кованые сундуки она опускала заработанную наличность, а утром поднималась снова: в мир энтропии, реальности, тонкой, как покров Майи над хаосом».
Вспоминаются забытые бойцы – РНЕ* и ФНРД. Те, кому хотелось не власти, а знамён и хоругвей.
Шмырёв пишет не лишь о своей юности-1990, но и обо всём и сразу – о фильме «АССА» и – продавщице мороженого, о причинах популярности оперетты в брежневские времена и – портрете Есенина, о раскопках и – выпивке и даже о мадам Дюбарри, несчастной фаворитке Людовика XV, которую зачем-то казнили санкюлоты. Каждое высказывание – словно картина импрессиониста. Важно впечатление, отпечаток в сознании. И всё это – с флёром и живым дыханием.
В сборник также включены стихотворения, не менее выразительные, чем проза. Собственно, Шмырёв в большей степени поэт, ибо вся его проза – поэтична. И тут прослеживается романтическая линия сражений, шествий, знамён и символов: «Весна-война, весна-война. / И, шествуя повдоль пассажа, / Что пребывает и доднесь, / В ремнях, значках и камуфляжах». Неважно, какой ты – левый или правый, ты – в строю, за шагом – шаг. В стихотворении «Белый дом» – мемуарный росчерк: «Вспоминаю короб / Дома, белый-белый. / Был я очень молод, Год тогда расстрельный… / Шёл, но мы не знали. / Поднимали знамя / Против серой стали — / Рыщущее пламя». То была не свершившаяся революция юных – коммунистов, баркашовцев, казаков, короче белых или красных. Бунт мальчиков и девочек в камуфляже против жирной плутократии Бориса Ельцина. Восстание «книжного» поколения – у Белого Дома стояла неоперившаяся интеллигенция.
От политики – к эстетике: «Я увидел звукослово, / К звукослову я пришёл. / Звукослово было ново — / Летний полдень, белый стол». Ритм и вкус Серебряного века. Не то Велимир Хлебников, не то Игорь Северянин. Сплетение звуков в фантастическую вязь.
Темы – самые разные. От флибустьеров до Ледяного Похода, от мужеубийства, свершённого Екатериной – до Маяковского и окон РОСТа. Во всём – утончённость: «Нарисовано, — в общем, расплывчатым чем-то. / Окна стеклят темноту в дремотных болотах без света».
Сейчас преизрядно затаскали определение «атмосферный», однако вещи Максима Шмырёва именно атмосферные. Вслушайтесь в стук колёс возвращающегося в Москву поезда: «И просыпаешься, когда впереди огромным заревом, занимающим полнеба, фонарями, широкими проспектами появляется Москва, и всё, кроме неё, кажется сказочным, приснившимся, несуществующим — как звёзды в свете прожекторов». И всё становится ясно.
Галина Иванкина
Источник: Завтра
*ряд подразделений РНЕ признаны экстремистскими структурами.
