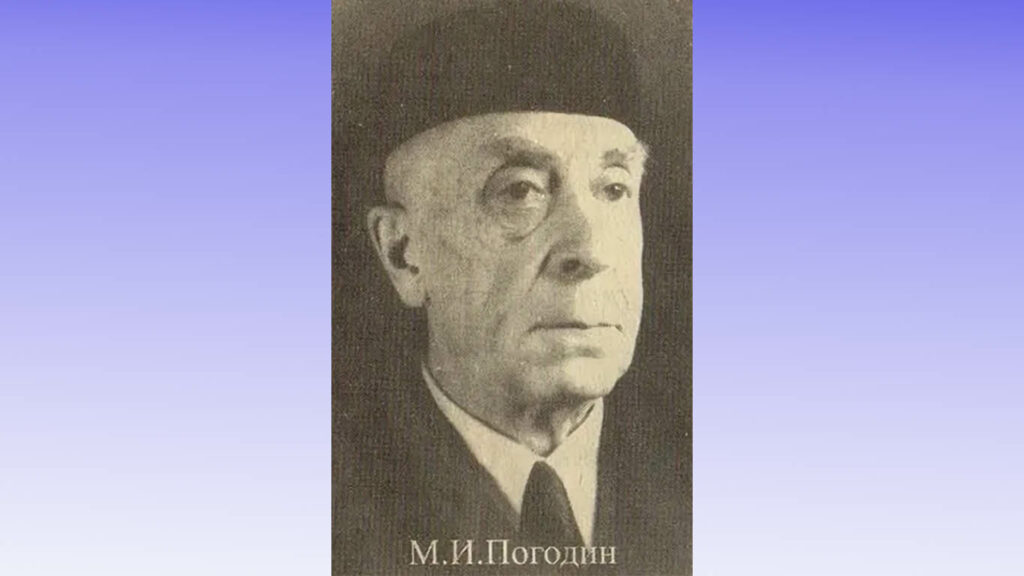
К 55-летию со дня кончины известного русского этнографа, краеведа, одного из создателей клуба «Родина» (13 октября 1884 — 18 августа 1969)
…Больной лежал на широком кожаном диване. С постели он несколько дней уже не вставал. Дверь нам открыла его жена Мария Николаевна.
— Вы кто? — встретила она нас вопросом, когда мы позвонили. Мария Николаевна страдала тяжким атеросклерозом и меня с моей женой Галей не узнала, хотя мы в последнее время бывали частыми гостями у Михаила Ивановича.
— Проходите, проходите, — раздался голос из комнаты. — Маша, это ко мне, — строго сказал Михаил Иванович, чтобы пресечь ненужные вопросы и словоизлияния говорившей совершенно не к месту бедной Марии Николаевны.
Она, всю жизнь любившая только Михаила Ивановича, беспрекословно повиновалась ему всегда, а в последние годы это превратилось в такую форму, которая, собственно, и позволяла жить вместе этим старым, больным людям. Детей у Погодиных не было.
Михаил Иванович, приветствуя нас, приподнялся на высокой подушке. Выглядел он плохо. Небритые щеки ввалились, лицо было бледным. Нетрудно было понять, что чувствует он себя худо. Но не таким человеком был последний из рода Погодиных, чтобы заставить кого-то печалиться. Желая скрасить первые минуты естественного напряжения у постели тяжелобольного, он прищурил свои немного выпуклые глаза и, улыбаясь без всякой натуги и деланности, спросил:
— Как жизнь, какие новости?
Мы начали рассказывать о своих впечатлениях последних дней. Михаил Иванович живо интересовался моей работой, давал советы, рекомендовал литературу. Я собирал материал о народной деревянной скульптуре и незадолго до этого побывал на родине Михаила Ивановича — на Смоленщине. В разговоре я старался рассказывать о местах, близких и хорошо знакомых ему, — Дорогобуже, Болдинском монастыре, в окрестностях которого было когда-то имение Погодиных, где он и родился.
В 1929 году в Дорогобужском Болдинском монастыре Петр Дмитриевич Барановский открыл Музей русской деревянной скульптуры Смоленщины. Помощником Барановского в создании музея был Михаил Иванович Погодин.
Михаил Иванович был на редкость интересным собеседником. Его рассказы я мог слушать часами. Каждая встреча с ним была для меня настолько полной и значительной, что вечер, проведенный с ним, по своему содержанию равен был десятку прочитанных книг, о которых я раньше только слышал. А здесь передо мной был добрый хранитель и щедрый волшебник, который одну за другой открывал мне двери кладовой знаний.
В библиотеке Михаила Ивановича хранились редчайшие издания с автографами самых знаменитых российских писателей. Они должны были по его распоряжению вместе с портретами Пушкина и Гоголя поступить в Литературный музей. Библиотеку по этнографии и народному искусству Михаил Иванович завещал мне и хотел составить дарственную, но я отговорил его от этого. Михаил Иванович серьезно болел и должен был лечь на операцию. Оформлять дарственную — значит лишить его всякой надежды на выздоровление, решил я и потому отказался от юридических актов.
Уникальное, многотысячное погодинское собрание книг по различным областям гуманитарных знаний вошло в состав фонда библиотеки Московского института химического машиностроения имени Д. И. Менделеева (ныне — Московский государственный университет инженерной экологии), основателем и заведующим которой был Михаил Иванович. В 2001 году библиотеке МИХМа — МГУИЭ присвоено имя М. И. Погодина.
Над диваном, где лежал Михаил Иванович, и по всей его маленькой двухкомнатной квартирке были развешаны портреты. Портреты предков, исполненные маслом, относились к концу ХУШ века и первой половине XIX века. Я с ними познакомился в один из первых своих приходов сюда. На них были изображены екатерининские и павловские вельможи — предки Михаила Ивановича со стороны матери. Мужская линия рода Погодиных не имела высоких титулов. Его дед — известный писатель и историк, профессор Московского университета, академик Михаил Петрович Погодин (1800–1875), выходец из крестьян, получил жалованное дворянство указом императора Николая I.
О жизни и трудах Михаила Петровича Погодина написано 22 тома — целая энциклопедия, составленная Н. Барсуковым (СПб., 1888–1910). Достаточно сказать, что он дружил с Пушкиным и Гоголем, чтобы понять: эти тома содержат много интересного о русской истории и культуре первой половины и середины
XIX века.
Михаил Иванович и в тот, последний раз рассказывал нам о Гоголе, Пушкине, Тургеневе. Гоголь был крестным отцом его отца. Литографический портрет писателя висел над письменным столом Михаила Ивановича. К нему он перешел по наследству от отца.
Я никогда не стеснялся спрашивать у Михаила Ивановича то, чего не знаю. Отвечая на вопросы, он делал это как-то особенно тактично, и каждый раз ответ на вопрос обрастал, словно ком снега, новыми значительными и малоизвестными мне подробностями, так что, выходя из дома Погодина, я долго не ног успокоиться, взволнованный его рассказом, благодарный.
…Чувствуя, что Михаилу Ивановича трудно говорить, я старался сделать нашу последнюю встречу неутомительной для него.
— Может, что надо? — спросил я.
Помолчав, он твердо сказал:
— Ставьте чайник. А пока греется, побреемся.
Я взял электрическую бритву и стал брить его. За время болезни щетина отросла, брить было трудно. Бритву то и дело заедало, но Михаил Иванович всякий раз успокаивал меня, что ему не больно и можно продолжать.
Бедная Мария Николаевна не принимала участия в нашей беседе. Приняв лекарство и попрощавшись с нами, она легла спать. Была уже глубокая ночь, когда я закончил брить Михаила Ивановича, сделал ему компресс из холодной воды и одеколона. Он вздохнул с облегчением, когда все было закончено, и с благодарностью смотрел на меня.
Чтобы как-то уменьшить напряженность обстановки, после ужина я предложил Гале устроиться в кресле на отдых, а сам остался наедине с Михаилом Ивановичем.
К утру у него боль усилилась, но он не проронил ни стона. Конечно, Михаил Иванович знал, что близится конец. Развязка должна была наступить скоро. И если он и не знал, то догадывался, что у него рак и помочь ему не в силах никто. Михаил Исаковский, которого Погодин вылечил в детстве от трахомы, выучил, привез в Москву и благословил на творчество, еще задолго до того, как Михаил Иванович слег, предлагал свою помощь, но тот деликатно отказывался.
Люди всегда живут среди людей, а помирают в одиночку. Михаил Иванович, которому было тогда за семьдесят, прожив большую жизнь, не цеплялся за соломинку. Будучи тяжело болен, он старался не докучать никому. Так умирают только большие люди. У него не было страха перед смертью. Могу свидетельствовать это. Я не слышал от него ни мольбы, ни отчаянных стонов. Душа его была чиста.
Михаил Иванович был старше меня вдвое, но сохранил так восхищавшую меня в нём молодость души. По отношению к нему слово «старик» как-то не шло. Он принадлежал к породе людей особенных.
Утро в день похорон Михаила Ивановича было хмурым, накрапывал дождь. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.
После похорон мы с Петром Дмитриевичем Барановским сходили на могилу деда Михаила Ивановича — М.П. Погодина, похороненного в ограде Смоленского собора Новодевичьего монастыря.
Гнетущей скорби, как обычно на похоронах, не было. Тихая элегия звучала в душе, когда я выходил из врат монастыря.
Владимир Десятников, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Почётный член Российской академии художеств
Источник: Слово
