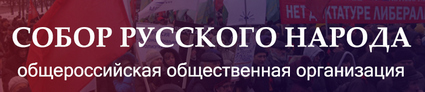В конце августа, в глухую отпускную пору, мне всякий раз приходит в голову вопрос: а вот окажись я в августе 91-го, но с сегодняшними знаниями всего того, что произошло потом, как бы я поступила?
Вообще-то, это часть большого вопроса, который, думается мне, приходит в голову почти всем, как выражаются в метро, «людям старшего возраста». Начни я жизнь сначала, или хотя бы отмотай плёнку сильно назад – что бы я сделала, как поступила? С сегодняшними знаниями. Ну, про всю жизнь так вот влёт не напишешь – потому ограничусь августом 91-го.
Для начала – что я делала в реальности.
Тогда мы (муж, сын и я) только что вернулись из отпуска. Были мы в Азербайджане, куда нас любезно пригласили местные товарищи, с которыми я была связана по работе. Кстати сказать, никакого намёка на то, что мы вот-вот станем иностранцами друг для друга, не было и в помине. Мы были советскими людьми и намеревались продолжать ими быть – по крайней мере, среди тех простых людей, с которыми я взаимодействовала, дело обстояло именно так. Иностранцами для них были итальянцы, которых я представляла, а мы друг для друга – свои. У человека, с которым я преимущественно взаимодействовала, сын учился в военном училище где-то в центре России, и всё это было нормой. Помню чудесные шашлыки из осетра в беседке, образованной вьющейся ежевикой и вкуснейшие лепёшки, которая тётка, вся в чёрном, пекла, приклеивая к раскалённой стенке печки. И ещё чай из стеклянных рюмочек. И совершенно голые маленькие мальчишки на пляже, у которых среди выбритой головёнки торчит тонюсенькая и довольно длинная косица. По-восточному ярко, грязно, сытно, дружелюбно. Потрясающие персики. То, что доходит до нас, что можно купить в Европе – не идёт ни в какое сравнение. А когда приезжала в предыдущий раз в командировку – подарили ящик вкуснейшей черешни, жёлтой. И ещё запомнилось, что ездят совершенно безо всяких правил.
Вот из такого отпуска мы вернулись, и вдруг – трах-бах – ГКЧП, «Лебединое озеро» и прочее, хорошо известное. Помню свою совершенно спонтанную мысль: «Ну вот и всё!». Это я имела в виду всю эту гласность, интересность, яркость и завлекательную болтовню… Вроде и огорчительно, что кончилось, и – нормально: так именно и должно быть. Вроде окончания карнавала. Ведь большинство в глубине души ощущало происходившее каким-то карнавалом, праздником непослушания, который не может быть вечным, он должен кончиться. Но пока не кончился – отчего бы не попрыгать, не подурачиться. Такое было типичное ощущение простого человека. Помню, моя приятельница вырезала особо чувствительные статьи из «Огонька» как раз из таких соображений: кончится же эта развлекуха, а вырезочка на память – останется. Из этих же соображений я собирала толстые журналы, которые потом долго-долго лежали у нас в сарае.
В тогдашней жизни, если что и было интересного, так это завлекательное чтение, которое в прошлые времена и не снилось. Хочешь – читай Бердяева, хочешь маркиза де Сада, хочешь Генри Форда, не говоря уж о журналах. Почитать-то я всегда любила. Один из тогдашних юмористов сказал, что читать стало интереснее, чем жить. А мне, по правде сказать, почти всегда так и было. Вообще, советские люди очень много читали. Каждый нормальный человек что-нибудь читал. Люди в порядке small talk’а обменивались вопросом: «А что ты сейчас читаешь?». Предполагалось, что каждый более-менее культурный человек в каждый момент времени читает какую-нибудь книгу. За границей это была редкость уже тогда: там пролистывали иллюстрированные журналы, смотрели телевизор, а чтоб книги… ну, это какие-то особые интеллектуалы или кто специально увлекается.
Что до реальной действительности, то в тогдашнем быту ничего особо интересного не было. Жизнь той поры в практическом отношении была ухудшенным вариантом советской. Но я тогда была молодая, не слишком привязанная к деталям быта (такой, впрочем, я осталась и поныне), кроме того, мы с мужем как-то всегда ухитрялись прилично зарабатывать, а потому ужаса «пустых прилавков» и знаменитого советского дефицита – мы лично особо не ощущали. Я его воспринимала скорее юмористически и исследовательски. А когда надо было что-то купить – просто платила две цены – и мне ЭТО приносили какие-то деятели чёрного рынка. Помню, у меня был приятель-мясник, Семён, который снабжал меня всем ассортиментом соседнего продмага. Такие Семёны были повсюду, и не прятались. Впоследствии, когда я уже завела собственный бизнес, я повстречала Семёна уже в качестве директора хозмага.
Ещё было тогда забавное: вдруг продают что-то – значит, надо купить. Почему-то часто торговали куриными яйцами прямо на улице. Или полукопчёной колбасой возле метро Смоленская; помню, я купила палку, которая пригодилась, т.к. я тогда уезжала в командировку в город Луцк на Западной Украине, как раз в поезде поесть.
И вот объявляют: ГКЧП, говорят какие-то, в общем-то, правильные слова, хмурые такие советские дядьки. Нет, я не испугалась: чего мне бояться? Пролистывая свою жизнь, я отмечаю, что вообще очень мало чего боялась – не от смелости, а по легкомыслию. Помню, я тут же стала перебирать журналы. Зрительно помню себя, в ситцевом халате, сидящей на полу возле шкафа. Перебираю и думаю: «Надо сохранить на память». И в руках у меня гадкий (я уже тогда догадывалась, что гадкий) журнальчик под названием «Столица», где жёстко мочили совок и взахлёб воспевали светлый образ Запада. Там писали, что Зоя Космодемьянская была не героиня, а фуфло, а победа под Москвой в 41-м году – вовсе не победа, а … поражение. Так и написано было: «Поражение под Москвой». «Ладно, – думаю, – надо и это сохранить».
Мы держали телевизор включённым, но ничего информативного не передавали. Вдруг сын спрашивает (ему шесть лет): что такое случилось? Мы с мужем пытались как-то объяснить понятно для его ума, что такое государственный переворот. «Вот, – говорю, – эти люди захватили власть». – «Как это – власть?» – не понимает сын. – «Ну, Кремль захватили», – объясняю я. – «А кто они – пираты?» – интересуется сын. И я невесть почему отвечаю: «Пираты». И тут же соображаю: «Неправильно так говорить ребёнку». Тут муж пришёл на помощь: «Надо ещё во всём разобраться, мы мало об этом знаем».
А дальше было вот что. Муж мой оказался внутри Белого Дома. Оказался как-то по-дурацки, подлинно волею судеб.
Он тогда уже пытался, не слишком успешно, заниматься бизнесом вместе со своим одноклассником, которого когда-то родители-евреи школьником увезли в Америку. Тогда многие шустрые евреи уезжали вроде в Израиль, а потом как-то переправлялись в США, был налажен такой трафик. Приятель мужа там выучился на программиста, что-то делал, но как только стало возможно, вернулся – уже в образе американского бизнесмена. Тогда он пользовался в Москве феерическим успехом – и у женщин, и вообще. Американский паспорт открывал перед ним все двери и сердца. Фора у него была гигантская, но реализовать её он не смог: превратился в пожилого русско-американского гешефтмахера, и гешефты его из года в год мельчают. Вернёмся, впрочем, в лето 91-го года.
Тогда мой муж, работая на Физтехе, где он, по правде говоря, не сильно надрывался, участвовал в каком-то проекте, затеянном этим приятелем и связанном с телефонией. Кто помнит, тогда позвонить за границу было целое происшествие: полагалось заказывать звонок через телефонистку, как-то очень муторно и непросто. Прямая связь с заграницей существует с 1994, сколь я помню. И вот эти ребята изобрели хитроумный способ звонить напрямую за границу – не помню, как, что-то через Финляндию. Они продавали специальные телефоны, позволяющие это делать. Помню, у нас дома стояли аппараты с выпиленным вручную окошком – зачем, понятия не имею. Потом этот бизнес был убит дозволением звонить напрямую.
Так вот в самый патетический момент глава этого бизнеса, тот самый одноклассник, предоставил свои чудо-телефоны для связи инсургентам, вернее сказать – защитникам конституционного строя. Или как они там правильно называются – словом, тем, которые были внутри Белого Дома. Не знаю, сумели ли они воспользоваться этими телефонами. Думаю, скорее, нет: не до того было. Но мой муж должен был сделать что-то техническое по части этих телефонов, и таким образом он оказался в Белом Доме. Сделав то, что требовалось, он намеревался уйти, но его портфель, где были все документы, оказался в какой-то комнате, которую заперли. Он искал-искал, кто бы открыл, и тут выяснилось, что уходить поздно: они в осаде. Так он и оказался в рядах героических защитников демократии. Он говорит, что реально раздавали автоматы. Продолжалось это, ежели память не изменяет, два дня. Я, конечно, за него боялась, но, странным образом, не слишком. Почему-то с самого начала было у меня ощущение чего-то ненастоящего, игрового, карнавального. А может – это мой несерьёзный нрав…
Между прочим, через год после этих событий, в годовщину победы демократии мужу прислали приглашение на встречу ветеранов – тех, кто сидел внутри Белого Дома. Муж, естественно, не пошёл: не то, чтобы он был против демократии (тогда большинство ещё не разобрало, что к чему: понимание пришло гораздо позднее), а просто глупо ему казалось изображать из себя ветерана.
В первый день я, сколь помню, на работу не ездила. Пыталась понять, что происходит, но ничего не поняла. Позвонила кое-кому, никто ничего не понимает. Но телефоны работают: значит, смекаю, мосты-почту-телеграф инсургенты не захватили. Видно, худо учили историю КПСС.
На следующий день, делать нечего, поехала на работу. Работа моя помещалась в Трёхпрудном переулке, рядом с Тверской. Это иностранное представительство. Все cлужащие, русские и иностранцы, политкорректно делают вид, что ничего не происходит; у секретарей включён вполголоса телевизор. Никаких особых патрулей я на Тверской не помню. Русские сотрудники представительства вид имеют озабоченно-растерянный. Одна девушка вполголоса беспокоится: что же будет? У них с мужем маленький бизнес, что-то, кажется, связанное с туризмом, вот она и беспокоится, не запретят ли. Говорят: надо идти в живое кольцо, они-де не могут, а ты (то есть я) чего не идёшь, ты же сама себе хозяйка? (Действительно, у меня не было обязанности сидеть сиднем в офисе). Позвонил мой итальянский начальник, сказал конспиративным голосом: «Мы будем говорить только о делах!» – словно обычно мы говорили о чём-нибудь другом – о моде или о погоде.
Закончив наскоро свои дела, я всё-таки отправилась к Белому Дому. Пешком. Это не слишком далеко, но и не особо близко, километра четыре, думаю. Почему пешком? Видимо, транспорт не работал, а может, просто хотелось посмотреть, что делается в городе. По выходе случайно встретила давнего и дальнего знакомого, тот рассказывал какую-то муру про смерть ещё более давнего и дальнего знакомого; еле отвязалась.
По мере приближения к Белому Дому толпа густела, и вскоре я шагала, словно на демонстрации. По сути дела, я ничего не видела. Рядом со мной были какие-то учащиеся медучилища с санитарными сумками, которые они взяли в кабинете гражданской обороны. Они явно играли в войнушку.
Когда приблизились к месту, по толпе прошёл слух, что всё, демократия победила, можно ехать домой. Я вместе в другими дошла до метро «Улица 1905 года», вошла в метро и уехала. Помню, повсюду на станции висели наскоро сработанные афишки, оповещавшие о победе демократии. Я была скорее рада: прошлое, поднявшее вроде как голову, – повержено. Я тогда была убеждённой сторонницей новой жизни. Но опять-таки у меня сохранялось отстранённо-игровое отношение ко всему этому.
А вот виденное в вагоне я не забуду никогда. Это лица людей. Простых, обычных людей: конторских служащих, сотрудников многочисленных московских НИИ и рабочих ещё более многочисленных московских заводов (в те времена на Пресне было полно предприятий, целая западная промзона, даже сахаро-рафинадный завод им. Мантулина, не говоря уж о пивном им. Бадаева и знаменитой Трёхгорке). Студенты были, учителя.
Так вот у всех на лицах было тихое сияние. И какая-то дивная солидарность и любовь к друг другу осеняла этот заурядный вагон метро. Такого я не видывала ни до, ни после – никогда не видела. Эти люди были счастливы и едины в этом счастье: они свалили гидру коммунизма, они отстояли нечто для себя чрезвычайно важное – вот что было написано на этих лицах. Я смотрела на это в некотором изумлении, но сама, лично никакого особого энтузиазма не испытывала: видимо, я вообще не способна в энтузиазму.
Сегодня многие говорят, что-де они лично были за советскую власть и за ГКЧП, а предателя-Горби – терпеть не могли. И вообще, несколько тысяч стояльцев в кольце – это далеко не вся страна. Очевидно: не вся. Но там стояли простые люди, это не был платный Майдан – на Пресне стояли по собственному почину. Стояли потому, что очень не хотели возвращения советской жизни, которая их «достала». Никаких калачей и пышек они от перестроечной власти не имели, это очевидно – просто они очень не хотели советской жизни в том виде, в котором она была в пору позднего брежневизма. Если мы будем всё списывать на пятую колонну, руководимую «вашингтонским обкомом», мы опять ничего не поймём и будем бесконечно ходить по кругу одних и тех же ошибок. А потом изумляться: как же так – опять всё развалилось!
Как было бы интересно спросить у тех моих давних попутчиков по вечернему вагону в метро: как сложились их судьбы? Они пожалели о своём выборе? Они считают себя одураченными лохами? Кто их, кстати, одурачивал: Горбачёв? Ельцин? Мировая закулиса и её продажные приспешники? Что сами-то они сегодня думают? Не спросишь…
Татьяна Воеводина
Источник – Завтра