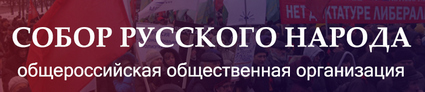К 150-летию Вячеслава Шишкова.
Сибирские пространства-просторы, от Урала до Тихого океана, несомненно, предполагают создание эпоса, являются естественным его вместилищем. С XVI века — русского эпоса. Не только эпоса исторического, в соответствии со знаменитым прозрением Ломоносова: “Путь и надежда чужим пресечётся, российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном…”, но и эпоса литературного.
Автора романа “Угрюм-река” Вячеслава Яковлевича Шишкова, чей полуторавековой юбилей (и 90-летие самого романа) мы в этом году отмечаем, с полным правом можно считать первопроходцем на пути сибирского литературного эпоса, уходящего корнями к народным песням-былинам о Ермаке Тимофеевиче и к первым сибирским летописям XVII века, к строкам Ломоносова (“Колумб российский между льдами…”), рылеевской “Песне о Ермаке” (“Ревела буря, дождь шумел…”) и знаменитым стихам Пушкина (“Во глубине сибирских руд…”). Шишков был первопроходцем, поскольку его предшественники, в том числе Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852–1912) в своём творчестве опирались всё-таки не на собственно сибирские реалии.
Уроженец же города Бежецк Тверской губернии Шишков, получивший инженерное образование, более двадцати лет, с 1892-го по август 1915 года, провёл в Сибири — и не просто провёл, а в качестве топографа и гидрографа участвовал в ежегодных экспедициях по рекам Ангаре, Бии, Енисею, Иртышу, Катуни, Лене, Нижней Тунгуске, Оби и Чулыму, а также по трассе Чуйского тракта и по другим направлениям работы Томского округа путей сообщения, где с 1896 года служил техником. И это была высокопрофессиональная работа: “Сделанное Вячеславом Яковлевичем в 1909–1910 годах описание реки Бия от города Бийска до Телецкого озера до сих пор — самый подробный план реки, с нанесёнными фарватером, скоростью течения, глубинами на различных удалениях от берега. Перечислены пороги, бомы, протоки, перевозы, указаны даже отдельные камни, мешающие судоходству. Восхищает и качество чертёжных работ — чистота и свежесть красок, богатство оттенков, ведь в оформлении плана из 92 листов кальки Вячеслав Яковлевич использовал шесть цветов туши”, — отмечают уже наши современники. Разумеется, в этих экспедициях перед глазами писателя, по его собственному свидетельству, “прошли многие сотни людей, прошли неторопливо, не в случайных, мимолётных встречах, а в условиях, когда можно читать душу постороннего, как книгу. Каторжники, сахалинцы, бродяги, варнаки, политическая и уголовная ссылка, кержаки, скопцы, инородцы”, каждый со своим словом и со своей правдой, что порой похуже всякой лжи…
В ту эпоху Сибирь из традиционного места каторги и ссылки, а также источника пушнины, золота и другого ценного сырья превращалась, говоря современным языком, в “зону опережающего развития” Российской империи, что выразилось не только в строительстве Транссибирской магистрали (1891–1916) и массовой миграции на “вольные земли” (только в ходе столыпинской аграрной реформы 1906–1910 гг. в Сибирь и на Дальний Восток отправилось около 3 млн переселенцев, а в целом за период 1897–1917 гг. количество жителей за Уралом более чем удвоилось; например, город Новониколаевск, нынешний Новосибирск, вырос с 8 до 107 тысяч человек, то есть более чем в 13 раз), но и в открытии высших учебных заведений, школ, училищ, больниц, типографий, музеев, библиотек, театров и прочих составляющих современной цивилизации.
Тем не менее способы, темпы и итоги такого развития со стороны прогрессивной сибирской интеллигенции: как “старожильной”, с “декабристской” и ещё кержацкой, староверческой закваской, так и новоприбывшей за Урал после реформ 1861 года, — подвергались критике. Критике, которая так или иначе брала за образец “свободный” капитализм американского типа, призывала как можно шире открыть двери для иностранных инвестиций и демократических общественных порядков, поскольку в условиях царской России “через двести с лишним лет (После похода Ермака. — Г.С.) мы видим в стране (Сибири. — Г.С.) малочисленное население, разбросанное на громадном пространстве, только что удовлетворяющее своим первым потребностям, довольствуясь мелкой промышленностью. Мы видим бедные городки, разорённые возмутительными насилиями и грабежами наезжих воевод и злоупотребляющих властью губернаторов… Страна от земледельческой едва переходит к заводской промышленности. Минералогические богатства Сибири лежат большей частью неразработанными. Умственный уровень Сибири на низшей степени; образованием сибиряки принуждены пользоваться, уезжая далеко-далеко от места своей родины”. Это отрывок из статьи “Сибирь перед судом русской литературы” одного из первых идеологов сибирского “областничества” Николая Михайловича Ядринцева, опубликованной в № 9 неофициальной части “Томских губернских ведомостей” за 1865 год. К концу XIX — началу ХХ века подобные настроения за Уралом только укрепились и разрослись, а после краха Российской империи, казалось бы, даже получили шанс на реализацию, но в ходе Гражданской войны отколоть Сибирь и Дальний Восток от России в интересах и в пользу “передовых” стран мира так и не удалось. Хотя соответствующие планы “деколонизации” нашей страны с расчленением её на множество независимых государств, “сибирских” и “дальневосточных” в том числе, по-прежнему содержатся в идейном арсенале “недружественных” нашей стране государств.
Поэтому так важна, помимо собственно художественных достоинств романа “Угрюм-река”, его яркой и прочной фактической основы (у всех главных героев были реальные прототипы), глубокая мировоззренческая основа: “Жить надо не для себя и не для других только, а со всеми и для всех” — отрицающая принцип “жизни для себя”, в том числе на примере возвышения и краха династии Громовых, но явно связанная с евангельской (и библейской) заповедью “Возлюби ближнего как самого себя”. “Западные” принципы отношений между людьми, а также между человеком и природой (которая выступает полноправным, а нередко чуть ли не главным действующим лицом шишковской прозы и всего “сибирского эпоса” — в связи с этим можно привести в качестве примера и “Вечный зов” Анатолия Иванова, и “Прощание с Матёрой” Валентина Распутина, и “Царь-рыбу” Виктора Астафьева, и множество других произведений) здесь попросту “не работают” (кстати, в образе американца мистера Кука, коверкающего русские пословицы, автором “Угрюм-реки” как будто угадан и предсказан президент США Рональд Рейган). Желание единолично стать хозяином Угрюм-реки и всей жизни на ней приводит Прохора Громова к гибели — и нравственной, и физической.
Так что победившие в гражданской войне большевики вполне обоснованно с 1920-х годов зачисляли Шишкова в свои “попутчики”, и писателю действительно было с ними по пути — не с громовыми же, ослеплёнными и заживо убившими себя стремлением к богатству и власти, вместе идти? Но это, конечно, не означало личного ослепления писателя грядущим коммунистическим раем на земле для всех, тем более что “правда и святость поравнять людей не могут, грех всех равняет”. Да, “в жизни всё надо преодолеть, а прежде всего — себя”, но как это сделать? Ведь “нет такого человека, который бы знал себя до дна”. Своё призвание и свою цель Шишков видел иначе: “Эта вещь (Роман “Угрюм-река”. — Г.С.) по насыщенности жизнью, по страданиям, изображённым в ней, самая главная в моей жизни, именно то, для чего я, может быть, и родился”.
Но, конечно же, родиться было мало: и юношеская встреча с Иоанном Кронштадтским, и множество других встреч, жизненный опыт и тяга к литературному творчеству — всё здесь сошлось, сплелось воедино. Первое крупное произведение писателя, повесть “Тайга”, над которой Вячеслав Яковлевич работал в 1913–1915 годах, уже получив экстремальный опыт выживания во время экспедиции 1911 года на Подкаменную Тунгуску, завершалось уничтожающим глухую и убогую таёжную деревню Кедровку (“Всё в ней было по-своему, по-таёжному. И своя правда была — особая, и свои грехи — особые, и люди в ней были другие. Не было в ней простору: кругом лес, тайга со всех сторон нахлынула, замкнула свет, лишь маленький клочок неба оставила”) вместе с её обитателями таёжным пожаром — образ, который тогда был воспринят как метафора и предвестие грядущей революции: “Русь! Веруй! Огнём очищаешься и обелишься. В слезах потонешь, но будешь вознесена”. О том же — эпиграф из Второго послания апостола Петра, согласно которому небеса, “земля и все дела на ней сгорят”, но их сменят “новое небо и новая земля, на которых обитает правда”. Сходные мысли повторяются и в “Угрюм-реке”: “Революция есть хирургическая операция. Да, кровь. Да, пожалуй, насилие. Но насилие и кровь на пользу организму в целом… Революция — есть та же эволюция, мгновенно вспыхнувшая, чтоб переключить сроки в сотни лет на какой-нибудь год, два…”
Не хватило ни года, ни двух, ни в конечном счёте двенадцати советских пятилеток, хотя поставленную Сталиным задачу (“Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”) решить всё-таки, ценой невероятных усилий и жертв, удалось. И даже с запасом ещё на 40 лет после Победы 1945 года, с освоением “мирного атома” и преодолением земного тяготения…
В последние годы жизни, совпавшие с Великой Отечественной, Вячеслав Яковлевич подтвердил, что он — настоящий патриот своей Родины. Осенью 1941 года знаменитый писатель отказался от эвакуации из Ленинграда и пережил там первую, самую тяжёлую, блокадную зиму, выступал по радио и в госпиталях, писал статьи, рассказы и книги, воодушевлявшие соотечественников на борьбу с врагом, продолжая работу над ещё одной вершиной своего творчества — неоконченным романом (сам автор чаще называл его “историческим повествованием”) “Емельян Пугачёв” в трёх книгах, первая из которых увидела свет ещё в 1938-м. Обращение писателя к фигуре вождя крупнейшего крестьянского восстания XVIII века трудно назвать случайным. Он, автор романа “Ватага”, изданного в 1923 году и посвящённого кровавым перипетиям Гражданской войны, хорошо понимал причины русского бунта и готов был поспорить — не только, подобно Есенину, относительно его бессмысленности, но даже относительно его беспощадности — с самим Пушкиным. Удостоенный в 1946 году, уже после смерти писателя, Сталинской премии I степени в области литературы и искусства, “Емельян Пугачёв” рисовал “век золотой Екатерины”, эпоху побед русского оружия и расширения государства, не только с его обратной стороны, с его изнанки, но и с открывшейся (ведь всему своё время: “Ребёнок не может сразу подыматься на гору: он прежде должен научиться ходить”) только после революции и невозможной без неё исторической ретроспективы…
Тема народной правды и “души народной”, которая “за себя попустит, а за другого не попустит”, ярко раскрытая, при этом была автором в его историческом повествовании (как он сам признавался, по примеру “Петра Первого” А.Н. Толстого) заметно “очищена” и приближена к мифологии “народного царя”, причём в её сталинском варианте “отца народов”. Можно даже сказать, что творчество Вячеслава Шишкова “закольцовано”: от его первой, опубликованной в 1908 году, сказки “Кедр” до “Емельяна Пугачёва”. С подлинным бриллиантом в этом золотом кольце — романом “Угрюм-река”, по праву входящим в Алмазный фонд русской литературы.
Георгий Судовцев
Источник: Завтра