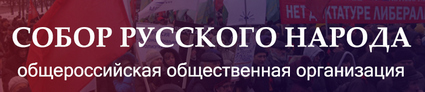150 лет Ивану Шмелёву.
Где светит оно, “Солнце мёртвых”? Понятно, что в христианском аду его нет и быть не может, — там мрак кромешный или инфернальный огонь, которым жгут души грешников, или же льдистые отблески “абсолютного нуля”, выжимающего из лишённых тела остатки бытийного тепла. Есть ли оно в раю, залитом божественным, нетварным Светом? Над Крымом оно, над Крымом 1921 года, разорённым, голодным и опустевшим, тогда — будущей, а теперь бывшей “всесоюзной здравницей”, сто с лишним лет назад…
Где стоит оно, летописное “Лето Господне”, в какой памяти детства, прижавшейся ко благой руке Спасителя мира и ко множеству поколений предков, населявших и ещё населяющих эту жизнь, где и тебе теперь уделено твоё место и время? Когда все краски, запахи и звуки — впервые и навсегда? В Москве, в Замоскворечье, недалеко от Донского монастыря 1880-х годов…
Автор так выбирает и расставляет слова, что как будто вся полнота бытия в своей мгновенности и вечности открывается читателю — свидетелю шмелёвской прозы, окутывает его подлинностью своего литературного инобытия (и всебытия), заставляет смеяться и плакать, сопрягая описанное с течением собственной жизни и её смыслами. Слово — не от мира сего, но для мира сего. Купеческий сын выучился на юриста, служил государственным чиновником (податным инспектором во Владимирской губернии), но по сути своей был писателем. Настоящим русским писателем. “Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем”, — эта характеристика Достоевского из булгаковского “Мастера и Маргариты” как раз впору без всяких примерок приходится и Шмелёву. Ещё в раннем детстве ему “выпал крестик” — прославленный даром прозорливости иеромонах Варнава Гефсиманский (в миру — Василий Меркулов) из Троице-Сергиевой лавры передал мальчику нательный крест, а когда уже студент и начинающий писатель Иван Шмелёв и его невеста Ольга (они прожили в браке больше сорока лет) направились к нему за благословением для свадебного путешествия в Валаамский монастырь — дал прямое напутствие-предупреждение: “Превознесёшься своим талантом”. “Всё. Во мне проходит робкой мыслью: “Каким талантом… этим, писательским?” Страшно думать…” — ведь “писатели — это совсем особенные люди… Разве писатель может родиться в Замоскворечье, на шумном дворе, где только простой народ, где совсем не читали книг…”
С первых шагов Ивана Шмелёва на литературном поприще его талант был очевиден и замечен, прежде всего — в той революционно-демократической среде русской интеллигенции, взгляды которой он тогда практически полностью разделял. С 1907 года, после одобрения Максимом Горьким повести “Под горами”, Шмелёв полностью сосредоточился на литературной деятельности, в 1909 году вошёл в московский художественный кружок “Среда”, где был “своим среди своих”: того же Горького, Леонида Андреева, Ивана Бунина, Аполлинария Васнецова, Викентия Вересаева, Сергея Рахманинова, Алексея Толстого, Фёдора Шаляпина, свёл знакомство с будущим наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским и другими “политическими”, — активно участвовал в работе “Книгоиздательства писателей в Москве”… Книга за книгой, успех за успехом, кирпичик за кирпичиком в дом текущего жития, которое должно улучшаться и радовать, ведь “прогресс человечества не остановить”.
Это первое “превознесение талантом” Шмелёва завершилось с революциями 1917 года, когда он и его жена в конце Гражданской войны оказались на грани голодной смерти в Крыму, а их единственный сын Сергей там же был расстрелян как белый врангелевский офицер. Когда от прежних веры, надежды и любви по отношению к прогрессу, к знаниям человеческим остались только “…старьёвщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею — для будущего, из крови настряпают “кубиков” для бульона… Раздолье теперь старьёвщикам, обновителям жизни!.. Не знаете, не видали вы этого, вы, смакующие — человеческие “порывы”, восторженные ценители “дерзаний”! Всё это “смазка” чудесной машины Будущего, отброс и шлак величественной плавильни, где отливается это Будущее! Уже видны его глаза…” — глаза, ослеплённые “Солнцем мёртвых”. Эту шмелёвскую книгу, написанную им сразу после эмиграции из Советской России, прочла и приняла вся “мыслящая Европа”, которой показали и которая увидела здесь для себя нечто пострашнее ужасов только что пережитой Первой мировой войны. Про “русскую” эмиграцию что и говорить…
Отвратившийся от “светлого будущего”, дорога к которому выложена теми же благими намерениями, что и дорога в ад, оказавшийся до конца своей жизни вне Родины, Иван Шмелёв обращается к прошлому, воссоздавая и украшая образ “России, которую мы потеряли” как утраченного рая из своего детства — образ, способный заполнить, закрыть пустоту пережитой и невозвратимой утраты. Изобильное великолепие московского Постного рынка, выпускание птичек на Благовещенье, Пасха — завет воскресения и жизни вечной по неминуемой смерти, Троица, Преображение и до самого Рождества, а там новый Великий пост виден — извечный круг православного “Лета Господня”, глазами давно уже выросшего, но всё ещё памятливого до былой своей восторженности ребёнка…
“И теперь ещё не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушовку запахом, зажмёшь в ладони, зажмуришься, — и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, — маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший… с берёзками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, чёрной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного, с пышными лопухами и крапивой, далёкий сад…” Что имеем — не храним, потерявши — плачем.
Да, Шмелёва — беглеца из России признали дважды, в 1931-м и 1932-м, номинировали на Нобелевскую премию по литературе (при желании можно даже сказать, что в 1933 году присудили её Бунину отчасти и вместо его обойдённого высокой наградой давнего друга, и вместе с ним — проторил дорожку). Вопрос о том, как не разглядел настоящий русский писатель в немецких нацистах, увиденных и предсказанных им же самим “старьёвщиков”, в каком ослеплении (всё того же “солнца мёртвых”?) мог принять их, создателей “лагерей смерти”, за светлую силу, способную отомстить большевикам за уничтоженную дореволюционную Россию и восстановить этот “утраченный рай” — вопрос уже второго “превознесения талантом”, не менее тяжёлого и важного, чем первое. Тяжёлого и важного — не только для самого Шмелёва, но и для его читателей. Выясняется, что уповать на приход светлого будущего столь же опасно, сколь и на возврат к светлому прошлому, а настоящее — только разрыв между тем, что уже было, и тем, что будет, разрыв, через который можно видеть то, что обычно и, как представляется, очень неточно именуется “тайной бытия”.
Общественно-политические взгляды и ошибки любого художника, художника слова в том числе, принадлежат исключительно его времени, а созданные им творения — ещё и его, и общей для всех людей вечности. “Сила натяжения” между ними непрерывно изменяется, но в случае со Шмелёвым уже ясно, что он выходит за рамки своего времени и за границы своих ошибок. Собственно, к этому он и стремился в своей жизни и в своём творчестве.
Можно сходить на кладбище Донского монастыря в Москве, где Шмелёв, как и мечтал при жизни, был перезахоронен в 2000 году вместе со своей любимой женой и недалеко от могил генерала Деникина и философа Ивана Ильина. А можно перечитать рассказ “Приволье”, посвящённый памяти А.П. Чехова и написанный Шмелёвым в 1949 году, то есть незадолго до своей собственной кончины. Действие этого произведения происходит сразу в двух пластах воспоминаний автора: о 1904-м годе, когда во время рыбной ловли на реке Клязьме он узнал о смерти Антона Павловича, и о середине 1880-х годов, когда произошла личная встреча автора-подростка и его друга-сверстника Женьки с ещё молодым тогда врачом и сочинителем Чеховым — “приятным незнакомцем”, который по незнанию занял их место рыбалки и, по утверждению Шмелёва, сделал эту встречу основой своего рассказа “Мальчики” (1887).
Но, возможно, главное в этом произведении — выраженное через слова о Чехове одного из шмелёвских героев понимание писательской (и в целом человеческой) миссии: “Портрет его (Чехова. — Г.С.) у меня, в приложении к “Ниве”, вырезал, повесил над письменным столом. Почитаю — погляжу. Ах, Господи… как он “Архиерея”-то изобразил! Читаю — и плачу от радости. Ну, скажите… ну, как вы думаете?.. Ну, кто мог бы так ласково описать, с такой любовью?! Это всё пустяки, все облыжно и пишут, и говорят… соберутся у меня семинаристы… и то же… — он, говорят, тут переборщил, подсластил!.. Дураки!.. Я им говорю — это вы по Писареву! он — самый верующий, куда, может, верней нас верует! И никакой не атеист! Врёте, подлецы! прости меня, Господи! Так ласково, благородно-нежно! Никакой теперешний писатель так не сумел бы!.. И дара такого нет теперь, чтобы ласково… а всё подделка пошла, под хулу…”
И хотя здесь этот герой, отец дьякон, невольно противоречит одной из чеховских заповедей: “Лучше сказать человеку “мой ангел”, чем пустить ему “дурака”, хотя человек более похож на дурака, чем на ангела”, — сам-то автор ни на мгновение не забывает, “Как надо” (название одного из шмелёвских рассказов): человека всегда должно любить, относиться к нему с лаской, без хулы и подделки (лжи), чтобы иметь возможность вернуться к своей настоящей сущности. “Выпили мы за упокой раба Божия, новопреставленного Антония. Печали не было, а лёгкость и благоволение на душе. Будто его смерти не было. Да и правда: живой, всё равно, и с нами, и будет с нами, пока видим светлую красоту русского полудня, чудесное приволье, пока слышим родную песню, доплывшую к нам в медовой волне покоса…” И Шмелёв тоже поднимается до этой “чеховской” любви ко всему сущему: “Дьякон спал навзничь, на припёке. Болезненное его лицо теперь было покойно, кротко. Божия коровка ползла по его бурому сапогу. Подумалось мне с чего-то: “Как хорош русский человек! И все там — хорошие, родные… в этом приволье…”
И это — третье, последнее шмелёвское “превознесение талантом”: уже над самим этим талантом и над собой, со всеми своими человеческими слабостями и грехами…
Иван Сергеевич не раз признавался: “Я не поэт”, — но его московская, золотисто-медовая, насыщенно-вещная и вроде бы столь чужеродная для мистичного “Серебряного века русской поэзии” проза почему-то неизбежно рифмуется со строками Александра Блока:
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!
Георгий Судовцев
Источник: Завтра